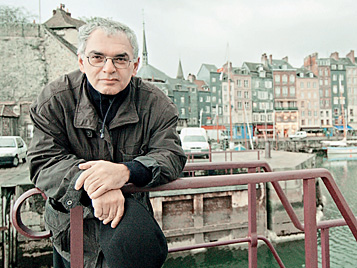
В одном всегда что-то происходит, движется, рушится: молодость проходит, империя распадается, старость настигает. В другом все неподвижно, это мир раскаленного Востока, скал или песков, базаров или гробниц: змеи шуршат, старики бранятся, барана ведут на веревочке. Этот призрачный восточный мир, застывший, неподвижный, неуязвимый, тайными знаками проступает сквозь обыденную реальность чуть ли не всех его притч, замаскированных под бытовые комедии или мелодрамы. Ведь все, что снимает Шахназаров, — о гибнущих империях, о ностальгии по их стилистической цельности и человеческой сложности. Об этом и «Цареубийца», и «Курьер», и «Всадник по имени Смерть», и даже «Зимний вечер в Гаграх», и прихотливо устроенный «День полнолуния», в котором тоже мелькает все тот же вечный, застывший Восток: ему-то все нипочем. Тоской по этой застывшей вечности пронизан и новый фильм Шахназарова «Исчезнувшая империя», выходящий на экраны 14 февраля и уже представленный прессе. Наверное, это лучшая его картина. Во всяком случае, самая точная.
Ничего или почти ничего не происходит, но все отчетливо, явственно иссякает. Осенние пейзажи, отлично снятые Шандором Беркеши. Старые машины, старики и старухи на улицах, беспомощные менты, чудаковатые военные, туповатые лекторы, неспособные заставить студентов хоть на минуту сосредоточиться и послушать нуднейшие рассказы про Ленина, РСДРП и образы былинных богатырей. В этом мире уже изо всех щелей повевает гибельный сквознячок, он держится на соплях, на честном слове, его размывают десятки ручьев — тут и подростковый скепсис, и всеобщая тоска по Западу, и вещизм, и тупость сонливой власти.
Почему все это рухнуло все-таки? Ведь крепко стояло...
Мы не первая рухнувшая империя, конец большого государства редко бывает живописен — чаще всего он некрасив, трагичен, кровав. И я вовсе не ностальгирую по 70-м — я хорошо помню, какие они были. Часто — душные, глупые, тесные. Очень наивные. Я и не призываю по ним скучать. Но я прошу их уважать. Потому что так или иначе на наших глазах свершилось великое событие, одно из тех, что определяют потом целые эпохи. Надо помнить, «чему свидетели мы были». Я не думаю, что СССР пал в результате заговора ЦРУ или вследствие экономических проблем. Его погубили катушечные магнитофоны — не зря у нас в первом кадре «Комета». «Битлз», «Роллинг Стоунз» и «Пинк Флойд» сделали для краха советского общества больше, чем вся гонка вооружений. Те, кто это все слушал, сами потом помогали расшатывать остатки империи и первыми оказались под ее обломками. Вот почему в нашем поколении так много уехавших, сломавшихся, растерявшихся и озлобленных. Они, конечно, понятия не имели, что сами приближали крах системы. Больше скажу — большинство из них были патриотами, что и показано в фильме; они искренне верили тому, что слышали, и страну свою любили, и не желали ей ничего дурного. Но она распадалась, потому что утратила смысл, мотивацию, позвоночник—там же говорит старик-археолог, дед главного героя: «Как Чингисхан завоевал Хорезм? Очень просто: велел засыпать каналы, по которым в город шла вода». Вода перестала идти, закупорены были все источники — и больше ничего не понадобилось. В СССР случилось нечто подобное — говорю не о внешних источниках, не только о них, точнее.
В этой странной, тревожной, элегической картине все начинается легко и беззаботно, как в «Курьере» (там этот образ чуждого восточного мира возникал благодаря песчаному карьеру с его инопланетным пейзажем). Но дряхлеет дед героя, академик, откопавший из-под песков древний Хорезм; умирает мать, разбегаются друзья, изменяет возлюбленная. Славный юноша Нарбеков, которого органично и, кажется, без усилий изображает Александр Ляпин, оказывается вдобавок исключен из вуза за дебош в летних Гаграх. Ничтожнейшие ошибки обрастают гроздью необратимых последствий — так всегда бывает в гибнущих социумах, где от крошечного толчка змеится трещина по стене и опасно накреняются колонны. Но герой по завету деда едет в Хорезм, в город ветров, и видит Восток, дикий, древний, неизменный. Оборванцы играют в нарды на базаре, старики спорят о своем, девушки ланями перебегают из дворика во дворик, барана тащат за веревочку, торговля заменена натуральным обменом... Руины древнего города растворены в пейзаже, они так на месте среди этой неизменной пустыни с ее неизменными верблюдами. Все, как в песенке Щербакова, написанной, кстати, во дни распада империи: «Там, и только там мыслитель волен наяву постигнуть Вечность. Ибо не умрет вовеки то, что не рождалось никогда». Если время течет — оно обязательно уносит с собой все, и любая жизнь — хроника утрат. Но если ничего не будет происходить, так и терять, может, не придется? Может, именно в поисках какой-нибудь абсолютной твердыни Нарбеков и поступил в конце концов в Институт восточных языков, и начал изучать фарси, и стал переводчиком? Потому что Восток — дело не только тонкое, но и твердое, и его застывшее, вязкое, рахат-лукумное время надежней нашего, зыбкого и хрупкого?
Я не знаю. Никогда не умел интерпретировать свои картины. Но если в каждой появляется какой-то символ Востока — может, вы и правы. Во всяком случае, иссякание и распад я действительно чувствую острей, чем произрастание и расцвет. Это потому, что все мы свидетели гибели державы, о которой через тысячелетие будут вспоминать, как о Трое. Раскапывать ее памятники, расшифровывать легенды. Все мы эту травму пережили и, как могли, залечили, но главным содержанием жизни оказалась в конце концов она.
А вам не кажется, что правильный советский мальчик Степа — друг и враг главного героя — мог сделать значительно лучшую карьеру, чем та, что выпала ему в картине? Что в финале, когда постаревшего Степу отлично играет Владимир Ильин, мы видим совсем другого человека, не того, чью эволюцию было интересно прослеживать вначале?
Ильин начисто переиграл пожилого Нарбекова, так что я предпочел не показывать его вовсе. Голос слышим, лица не видим. А что старый Степа не соответствует молодому—так ведь я примерно это и задумывал. У него в самом деле есть все перспективы для идеальной карьеры, он приспособляем, искренне патриотичен, горячо доказывает, что ему «здесь хорошо» и ничто чуждое не нужно... Но оказывается, что на сломе времен успешных карьер не бывает. Да и вообще жизненный успех — весьма зыбкое понятие. Особенно на фоне такого исторического краха, как распад и деградация гигантской страны. Новая жизнь, может быть, стократ лучше. Но она другая, и прежнему человеку в нее не вписаться. Вот почему я предпочитаю не снимать о современности. Это дело 30—35-летних...
Кто написал сценарий?
Мой одноклассник Сергей Рокотов при участии 28-летнего Евгения Никишова. Рокотов сейчас писатель, сочинитель криминальных боевиков с названиями вроде «Труп найден дважды» или «Злая пуля», но как-то в дружеском разговоре он признался мне, что мечтает написать другую прозу. Я предложил ему написать сценарий «про жизнь», и почти все реалии в нем мне хорошо знакомы по рокотовской квартире и биографии. Скажем, его дед — действительно прославленный археолог, академик Толстов. И фотография Агаты Кристи, которая появляется в кадре, — та самая, подлинная: ее муж был археологом, дед Сергея с ним дружил, знал и фотографировал Агату... Рокотов отлично помнит 70-е, а молодой соавтор понадобился, чтобы придать убедительность всей студенческой, любовной линии.
Вам понравился «Груз 200»? Он ведь, в сущности, о том же, но совершенно по-другому.
Я никогда не комментирую работы коллег, не влезаю в вашу кинокритическую епархию и реагирую на чужие фильмы только своими. То, что вы увидели, в некотором смысле и есть мой ответ.
Вы довольно точно рассказали о том, что губило ту империю. А что погубит нынешнюю?
Да откуда я знаю? Что можно разглядеть на временном отрезке в 30 — 40 лет? Нам доступен крохотный кусочек большой истории, и помнить я советую только об одном: эта самая история делается не в Давосах. И поворачивают ее не войны. Империи рушатся из-за того, что мальчик начал слушать «Битлз» или бросил девочку.








