
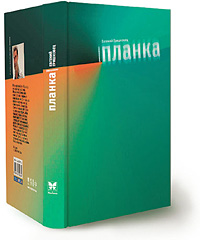 Гришковец незаметно заполнил собой все культурное пространство: премьера спектакля «По-По», программа «Настроение с Гришковцом» на СТС, наконец, крепнущий роман с литературой: его романы «Рубашка» и «Реки» входят в десятку российских бестселлеров, а в конце марта в издательстве «Махаон» выходит третья книга Гришковца — сборник рассказов «Планка». Это его первое интервью о новой книге:
Гришковец незаметно заполнил собой все культурное пространство: премьера спектакля «По-По», программа «Настроение с Гришковцом» на СТС, наконец, крепнущий роман с литературой: его романы «Рубашка» и «Реки» входят в десятку российских бестселлеров, а в конце марта в издательстве «Махаон» выходит третья книга Гришковца — сборник рассказов «Планка». Это его первое интервью о новой книге:
Судя по датам, почти все рассказы написаны за зиму 2005 года. Вас, что называется, захватило или вы просто поставили себе задачу уложиться в минимум времени?
И да, и нет. Было свободное время. Но писалось все действительно очень плотно, практически ежедневно, именно в состоянии такого удивительного азарта. Я написал цикл «Другие» — о службе на флоте и четыре других рассказа и думал уже, что книга завершена. Хотел уже дополнить сборник какими-то путевыми заметками, чтобы добавить веса книге. И вдруг возникла идея рассказа «Планка», который тянет по замыслу на повесть или роман. Но мне удалось отказаться от огромного количества подробностей, ответвлений и написать, как мне кажется, самый лучший свой рассказ, который и подарил название книге. Я написал его и понял, что книга уже не нуждается в дополнении.
«Планка» — загадочный рассказ. Что-то мимолетное, минутное резко меняет жизнь человека — сформировавшегося, обеспеченного. И обрыв. Это, кстати, есть во всех ваших рассказах: человек совершает глупости или, напротив, занимается какой-то рутиной и вдруг с ним что-то странное происходит — и все, другой человек.
Да, везде есть преодоление вот этой самой планки, везде она падает и что-то открывается перед человеком новое. В «Других» — что кроме тебя на свете есть и другие люди, во «Встрече с мудростью» — что мудрость не ум и не доброта, а что-то другое, причем при полном отсутствии ума, житейской смекалки, образования и всего прочего... Но сознательной задачи сделать цельное высказывание у меня не было, да это и невозможно. Я не настолько прагматичный человек.
Два года назад, когда вышла «Рубашка», ваш роман казался гимном человеку среднего класса — успешному и обеспеченному, но думающему, чувствующему. И вдруг, судя по сборнику, выясняется, что средний класс вам совсем не интересен.
Герой «Рубашки» все-таки — человек дела, он архитектор. Да, признается он, он — червь, он точит и точит какой-то маршрут на карте города, но все-таки создает. Мне неинтересны в качестве героев средние и мелкие бизнесмены — те, которые продают и перепродают воздух, которым все равно, на чем зарабатывать деньги: вчера у него было пять киосков, завтра — три заправки, потом кусок трубы и место в Госдуме... Но как люди они аморфны, они и сами себе нелюбопытны. Они пошли в своей жизни на такие компромиссы, что превратились в безликую армию.
С точки зрения бизнеса это нормальная вещь — не важно, чем торговать, лишь бы успешно.
Да. Но в то же время в человеке должно быть что-то созидательное. В этом смысле даже создатели каких-то финансовых империй, корпораций — выдающиеся люди, потому что придумали что-то новое, потому что давали рабочие места. Но мне неинтересны те, кото пользуется уже готовыми схемами для зарабатывания денег. И в этом смысле токарь, слесарь, шахтер или оператор большого экскаватора мне гораздо более интересны. Но поскольку среди моих знакомых таких людей нет, я пишу о жителях больших городов, о тех, чью жизнь знаю.
Получается, мы опять возвращаемся к соцреализму. К этому безусловному умилению перед человеком физического труда.
Ничего подобного. У меня все герои, кстати, люди с образованием и довольно сложным внутренним устройством. Герой «Планки» опять же всю жизнь чего-то строил, другой — некий госслужащий, третий — студент, четвертый — страховой агент, черт возьми... У меня все герои имеют совершенно определенные профессии. Они кое-что умеют в этой жизни.
Критики наверняка назовут вашу «Планку» провинциальной. Не только по месту действия, но и, так сказать, по значению...
И тем самым меня похвалят. Слово «провинциал» я отказываюсь воспринимать в качестве оскорбления. Как если бы инопланетянин сказал мне: «Братец, да ты человек!» Не подумайте, что я эдакий безусловный певец провинции. Когда провинциалы ругают образ жизни москвичей, я яростно вступаюсь за жителей столицы. А когда москвичи сочуственно говорят о том, что у провинциалов «совсем нет возможностей», я говорю им, что у провинциала они есть, и даже на одну больше, чем у вас: они всегда могут уехать в Москву...
А насколько рассказы — ваш личный опыт? Откуда вы знаете, как хоронить собак, например?
Я еще в детстве похоронил двух собак. Два года назад, помню, когда моя жена очень хотела собаку, я сказал ей: ты должна понять, что вот мы принесем домой щенка, такое чудесное существо, и мы должны быть готовы к тому, что мы его через какое-то время похороним.
Это дурацкая какая-то мысль. Зачем об этом думать и говорить?
А просто я сам это пережил. И это так больно, что лучше предупредить человека. Потом я вдруг вспомнил, как у моего друга умерла собака. И как он собирал ее вещи, чтобы похоронить вместе с ней. И помню, тогда я подумал: а куда деть дорогое существо в большом городе, где ее хоронить? Так появился рассказ «Погребение ангела», именно от этой мысли — хотя художественная задача произведения была другая. Когда хоронишь собаку, ты даже более одинок, чем когда теряешь родственников. Человеческой смерти люди хотя бы формально сочуствуют, а когда умирает собака, человек сам этой трагедии стесняется. Вот что меня интересовало.
«Сколько Вадик себя помнил, его всегда будили, тормошили, расталкивали, вытаскивали из сладкого сна». Это про все поколение 30-летних. Нам страшно хотелось спать, а нам не давали. Мы — поколение полусна.
Сейчас, подходя к 40 годам, я понимаю, что право на сон и вообще право делать то, что я хочу — это результат некоего опыта. Ситуация, описанная в «Лечебная силе сна», — это мой случай. Когда я приехал впервые в Рим, на один день, я так устал, что уснул и проспал весь день. Но вместе с тем у меня было прекрасное настроение и впечатление об этом городе. И с тех пор я перестал суетиться. Теперь за границей я никогда не пойду в какую-нибудь галерею только для того, чтобы отметиться — «так, вот и еще один шедевр я видел». Я так не получу никакого впечатления и хорошо это знаю.
А телевидение? Нет более суетливой вещи... Зачем это вам?
Ни за чем. Меня Александр Цекало позвал после спектакля нашего «по-ПО». Я понимаю, что на телевидении не создают произведений искусства, и задачи такой перед собой не ставил. Но это интересный опыт: во-первых, я никогда не писал и не произносил текстов от себя лично — только от лица персонажа. И не писал текстов, которые живут один день и такова им цена. Зато я могу чем-то порадовать людей. Могу говорить что-то о разных городах, в которых бывал или не бывал никогда. Когда я слышал о родном Кемерове что-то по телевизору — причем плохое даже чаще, чем хорошее, — и то меня это радовало. И теперь я могу доставить другим такую радость. Было бы глупо идти на телевидение с какой-то миссией... Я понимаю, что мне нужно произнести какой-то монолог для тех, кто ждет сериала «Не родись красивой». Чтобы по возможности это не раздражало человека, а чтобы было понятно.
Вот-вот. Каково быть в роли полутораминутной перебивки между рекламой и любимым сериалом? Телевидение не бережет человека и очень быстро перемалывает.
Ну объясните, ради чего мне себя беречь? Если у меня есть силы и возможности, мне из интеллигентского чистоплюйства надо было сказать: «Телевидение меня не касается»? Человек, который говорит, что у него нет дома телевизора, просто закрывается от мира. У меня телевизор есть, я его, правда, нечасто смотрю, но иногда могу и целый день прощелкать. И я смотрю даже передачи, которые меня раздражают, потому что думаю — е-мое, интересно, а ведь это уже предел... А оказывается, еще не предел. Я знаю многих людей, которые из желания от чего-то уберечься вообще в жизни ничего не сделали. Может быть, это моя ошибка, но поверьте: все, что сделано, я пропустил через мое личное ОТК и никто на меня не заманивал и не обманывал.
Знаете в рецензиях стало между слов проскакивать: Гришковец перестал быть «нашим», он предал нас. Это по-дурацки звучит, но такая у нас страна: всех принято делить на «наших» и «не наших». Где-то написали: «Он продолжает играть из себя бедного интеллигента, а знаешь, сколько его ботинки стоят...»
Ну, это происходило неоднократно: вначале так говорили, когда я начал играть спектаклики на 15 человек, раз в месяц, бесплатно. Потом те, кто ходил на эти спектаклики, называли меня предателем за то, что я стал играть ежемесячно в Москве. Потом гламурная, клубная публика, в свою очередь, отвернулась от меня, когда я начал собирать большие залы в провинции...
Зритель — эгоист. Он хочет, чтобы вы играли бедного и в жизни тоже были бедным.
Такое отношение свойственно тем, кто ждет, когда ты поскользнешься. Когда я выхожу на сцену в провинции, то говорю: «Спасибо вам, что вы оплатили билеты, купили — и тем самым оплачиваете способ моего существования», и большинство радостно аплодируют. При этом большинство в зале зарабатывает меньше, чем я. Но что сказать в этой ситуации? Я тружусь — и вот результат. Ясно, что заработки писателей детективов или «Дозоров» не сопоставимы с моими, но к ним почему-то претензий меньше. Наверное, это справедливо. Но я и не хочу, чтобы ко мне было меньше претензий. Хочу, наоборот, чтобы их было больше. Это не даст мне возможности халтурить или повторяться.
Однако и с гламурной средой вы тоже не породнились. Таким образом оказались где-то между интеллигенцией и гламуром. Нарушили часть интеллигентских заповедей, а к свету не примкнули.
Мне скучно в гламурном обществе. Как и с людьми, которые под бутылку водки поют песни КСП. Я совсем не хочу примыкать к «интеллигенсткой среде», которая формируется вокруг малобюджетных журналов и андерграунда, и очень бережно охраняет свои границы. Точно так же и гламур охраняет свои границы. Но все эти корпоративные условности мне глубоко безразличны. Я не желаю их замечать и считаться с ними, даже если их невольно нарушаю. Меня могут относить как к одной, так и к другой традиции, но это их личное дело.
Очень странная и неожиданная роль у вас в «Круге первом». Писатель Галахов. Советский писатель, по-вашему, — жалкое существо?
Нет, что вы. Солженицын действительно пишет о Галахове пренебрежительно, а я не хотел... Галахов — это не кто иной, как Константин Симонов. Я понимал, что Симонов был назначен властью на пост романтического героя — человек-трибуна, жена-красавица... Но вместе с тем я помню его роман «Живые и мертвые». Симонов был функцией, но не был подонком. И мне это хотелось показать. Человек он несчастливый, но уж точно не жалкий. В романе написано, что Галахов и пороху не нюхал, а мне не хотелось расставаться с тем образом, которому я поверил в 17 — 18 лет. Когда про войну говорили только с пафосом, а Симонов сидел, глядя куда-то вверх и вбок, куря свою трубку... И говорил о войне не пафосно и не пошло.
А почему с Солженицыным вы не захотели встретиться? Актеры вот многие воспользовались этой возможностью. Это все равно как со Львом Толстым...
А я и с Толстым не стал бы встречаться, и с Ахматовой. Чтобы не растрачивать любви и пиетета, оставшегося с детства... Заочно я всех их очень люблю, но зачем встречаться? Спрашивать, что они имели в виду, что хотели сказать? Точно так же режиссеры задают мне вопросы о трактовке пьесы, но я не могу им ответить. Потому что в тексте есть все. Вообще, когда ставят пьесы или экранизируют книги, место драматурга или романиста в таких случаях должно быть где-то на кладбище... Потому что как ни объясняй, только помешаешь.
Подмывает сделать заголовок — «Место писателя на кладбище».
Вот этого не делайте, пожалуйста. Я вообще по-человечески устал от иронического такого журналистского отношения... Такого представления об артисте, который рассказывает какие-то армейские байки, а еще вот он тут рассказы какие-то пишет. А еще и часы у него недешевые и ботинки дорогие — ну вообще обхохотаться. Играть или писать — это серьезный труд. И тот, кто отнесется ко мне, как к клоуну или замороченному интеллектуалу, сильно ошибется. Я нормальный, здоровый человек. Персонажи мои — живые люди, у них четкие ориентиры — географические и возрастные, временные и профессиональные, и я, мать его, тоже кое-что знаю про эти профессии и про эту жизнь. Мало того, я люблю это.

