|
Интеллектуальный пат |
Остров капитализма
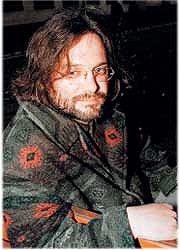 |
| Дмитрий Шумилов, композитор, бас-гитарист группы "Вежливый отказ": "Помимо того что я, естественно, получаю деньги от заказчика, каждый месяц из РАО мне приходят деньги за использование моей музыки в эфире" |
Другие знаменитости зарабатывали не меньше. Например, ходит байка, что в начале 80-х во Всесоюзном агентстве по авторским правам (ВААП) собиралась целая комиссия, рассматривавшая вопрос снижения авторских выплат Давиду Тухманову за исполнение песни "День Победы". Система работала как часы. Рестораны, дискотеки и прочие места увеселения сдавали в ВААП так называемые рапортички, в которых указывалось, какие песни исполнялись в отчетный период, и перечисляли плату за их использование, которая затем поступала авторам. А чтобы рестораны не занижали цифры, по ним ходили контролеры. Да, была такая работа — проводить вечера в ресторанах, фиксируя репертуар в блокнотике.
С развалом СССР эта система была разрушена, однако возникли предпосылки для создания новой, более совершенной. Принятый в 1993 году закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" не только позволил авторам получать вознаграждение за использование их песен и мелодий на радио, ТВ, в ресторанах и т. п., но и определил возможности для бизнеса музыкальным и книжным издательствам, продюсерам и всем прочим, кто зарабатывает деньги на издании произведений, созданных другими (это и называется смежными правами).
В 1994 году группа разработчиков специально созданного Центра частного права при президенте РФ приступила к написанию раздела "Интеллектуальная собственность" нового Гражданского кодекса. Законопроект, созданный рабочей группой под руководством профессора Виктора Дозорцева (интервью с ним читайте на стр. ??), был революционным, не имеющим аналогов в мировом законодательстве в области интеллектуальной собственности. Именно эта новизна сегодня и пугает многих специалистов.
Ученые баталии
История создания пятого раздела третьей части ГК изобилует взаимными обвинениями и слухами.Виктор Дозорцев обвиняет оппонентов в лоббировании интересов западных корпораций, а те упрекают его в непонимании законов рынка.
Первый звоночек о том, что все будет непросто, прозвучал сразу после начала деятельности рабочей группы. Эдуард Гаврилов, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Института международной торговли и права: С самого начала результаты работы группы Дозорцева держались в секрете. Лично я дважды обращался к нему с просьбой ознакомить меня с проектом или включить в состав группы, но получил отказ.
Однако какая-то информация о работе группы Дозорцева все же просачивалась, и становилось понятно, чем вызвана такая секретность. Проект в корне расходился с тем, чего от него ждали теоретики и практики в области интеллектуальной собственности, а конфликтовать с ними до завершения разработки специалисты рабочей группы не хотели.
После того как содержание проекта стало секретом Полишинеля, в адрес рабочей группы пошли критические замечания от специалистов, не согласных с подходом Дозорцева. Однако замечания эти учтены не были, и тогда группа ученых во главе с заведующим кафедрой гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского университета Александром Сергеевым (интервью с ним читайте на стр. ??) стала работать над своим вариантом пятого раздела ГК.
 |
| Константин Леонтьев, заместитель гендиректора Российского общества по мультимедиа и цифровым сетям: "Рынок интеллектуальной собственности в России только начал формироваться, резкое изменение законодательства отбросит его на несколько лет назад" |
Михаил Федотов, руководитель кафедры ЮНЕСКО, секретарь Союза журналистов России: Оппоненты Дозорцева, к числу которых я себя не отношу, критиковали его проект по нескольким направлениям, и многие упреки были справедливы. Главная проблема в том, что в проект помимо общей части, которая, кстати, представляется весьма убедительной, включен значительный нормативный материал, взятый из специальных законов. Он был радикально переиначен и в результате неизбежно должен был вступить с действующими законами в определенную коллизию. Такое построение ГК неизбежно привело бы к разрушению сложившейся правоприменительной практики, поскольку кодекс просто заблокировал бы ныне действующие законы. Кроме того, опасно включать в кодекс нормы, которые недостаточно апробированы. Новые, оригинальные нормы должны сначала появляться в специальных законах, проходить обкатку в судах и правительственных ведомствах и лишь потом претендовать на включение в ГК. Ведь когда нормы написаны с использованием терминов, не имеющих однозначного юридического смысла, они могут быть истолкованы по-разному и породить практику, не имеющую ничего общего с интенцией законодателя. Проект широко использовал оригинальные термины и юридические конструкции, но включать их в кодекс — значит подрывать связь с действующими российскими законами и некоторыми положениями международных конвенций.
Сторонники Дозорцева, в свою очередь, критиковали проект Сергеева за непроработанность, отсутствие новизны и слишком общий характер. Сергей Семенов, юрист фирмы "ФТМ энтертеймент": При ознакомлении с санкт-петербургским проектом не оставляло ощущение, что он сделан наскоро. Основной его недостаток — отсутствие концепции.
Виктор Дозорцев: Воспроизведение в кодексе положений действующих законов — необходимый элемент полноценной кодификации. К тому же полновесный кодекс будет препятствовать попыткам различных ведомств и лоббистских групп в дальнейшем переписывать законы под себя. Все упреки оппонентов Дозорцев назвал голословными, пояснив впрочем, что если ему покажут конкретные противоречия с международным или российским законодательством, то их можно будет устранить.
Спор продолжается до сих пор. Это даже не спор, а настоящая война, идущая с переменным успехом.
Например, в 1999 году был расформирован "Роспатент", подвергавший проект Дозорцева критике. Иван Близнец, заместитель гендиректора "Роспатента": В 1999-м мы довели свою позицию до Примакова, который тогда был премьером. В итоге на встрече с гендиректором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Камилем Идрисом Примаков пообещал, что пятый раздел ГК без учета точки зрения ВОИС принят не будет. Но в проекте, поступившем в правительство от Минюста, во главе которого тогда стоял Павел Крашенинников, рекомендации ВОИС учтены не были. Примаков устроил в Минюсте разнос, но почти тут же — так совпало — ушел в отставку. Сразу после этого с подачи Минюста "Роспатент" был расформирован, а его функции переданы Минюсту. Нас расформировали именно за критику проекта Дозорцева. Правда, через год решением президента "Роспатент" был восстановлен.
Константин Леонтьев, заместитель гендиректора Российского общества по мультимедиа и цифровым сетям (РОМС): Сразу после восстановления "Роспатента" представители министерств вместе с общественными организациями и с участием экспертов ВОИС подготовили проект изменений к закону "Об авторском праве и смежных правах". Он, естественно, был написан совсем не в русле готовящегося проекта Дозорцева. В октябре 2000 года после согласования с министерствами проект был передан в аппарат правительства для последующего внесения в Думу. Однако на заседании комиссии правительства представители Минкульта и Минюста заметили, что проект переписан на две трети. Оказалось, что это сделал сотрудник аппарата и член рабочей группы Дозорцева Городовиков. В итоге проект оказался непригоден для дальнейшей работы.
Но сторонникам проекта Александра Сергеева тоже есть чем похвастаться. Во-первых, они заручились поддержкой не только ЮНЕСКО, ВОИС, германского Фонда международного правового сотрудничества, Российского авторского общества (РАО) — эти организации выступили с критикой проекта Дозорцева,— но и добились благосклонности администрации президента. Критическое заключение на 51 странице за подписью Александра Волошина было направлено Крашенинникову в конце 1999 года.
 |
| Игорь Пожитков, директор регионального представительства по России и странам СНГ Международной федерации производителей фонограмм: "Компаниям, работающим легально, законопроект Сергеева действительно кажется привлекательнее альтернативного" |
5 марта 2001 года депутат Валерий Комиссаров внес в Госдуму проект Сергеева, а 30 июля вице-премьер Илья Клебанов направил в Думу официальный отзыв правительства, в котором, раскритиковав проект Сергеева, тем не менее, рекомендовал использовать его "в качестве основы". Ситуация казалась безоблачной, ведь за год до этого, 21 марта 2000 года, первый замминистра экономики Андрей Свинаренко направил в правительство заключение, где сообщалось, что проект Дозорцева за основу принят быть не может.
Однако в августе 2001 года при Минэкономики была фактически воссоздана группа Дозорцева, которой дали указание подготовить проект четвертой части ГК, целиком посвященной вопросам интеллектуальной собственности, "в максимально сжатые сроки" (в третью часть ГК законодательство по интеллектуальной собственности уже не попало). Формально речь идет о создании законопроекта, включающего положения как проекта Дозорцев, так и проекта Сергеева. Однако из разработки Сергеева в вариант рабочей группы не будет внесено ничего. Александр Сергеев: Согласовать проекты, различия между которыми носят принципиальный характер, невозможно. Я побывал на одном заседании рабочей группы и понял, что мои предложения просто не вписываются в ту концепцию, которая взята на вооружение разработчиками. Мы ведь хотели, чтобы такие эпохальные проекты принимались не келейно, а с учетом точек зрения всех специалистов. К сожалению, сейчас это невозможно. Поэтому сейчас в заседаниях рабочей группы я участия не принимаю.
Пока проект Сергеева лежит в комитете по законодательству, возглавляемому Павлом Крашенинниковым, процесс доработки проекта Дозорцева уже подходит к концу. Реально он будет представлен в правительство примерно в начале декабря.
Подобная спешка объясняется просто: в Думе на согласовании находится новая редакция закона "Об авторском праве и смежных правах", созданная путем объединения законопроекта, подготовленного "Роспатентом", и проекта, внесенного депутатской группой, в которую, в частности, вошли Сергей Говорухин, Николай Губенко и Иосиф Кобзон. Планируется, что депутаты рассмотрят этот документ в начале будущего года. И если его примут, то с проектом Дозорцева возникнут проблемы: зачем принимать раздел ГК, который явно не согласуется с только что принятым законом? Но если в Думу в начале года от имени президента внесут проект Дозорцева, то не будет принят как раз новый закон "Об авторском праве и смежных правах": понятно, что законопроекты, внесенные президентом, пользуются преимуществом. Борьба вступила в завершающую стадию.
Хрен редьки не слаще
Пока ученые спорят, владельцы интеллектуальной собственности в России ждут, чем завершится это противостояние. На кону стоят сотни миллионов долларов, а в перспективе речь может идти и о миллиардах. Кому же выгодно принятие того или иного варианта четвертой части ГК?
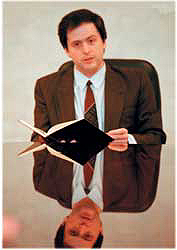 |
| Михаил Шингарев,заведующий адвокатским бюро "Арбитражсудправо": "Проекты можно охарактеризовать так: плохой и очень плохой" |
Проект Александра Сергеева, напротив, является мягким, не ломает сложившихся на рынке отношений, и этим он в первую очередь выгоден компаниям--операторам рынка интеллектуальной собственности. Но в тоже время он выгоден и авторам.
Игорь Пожитков, директор регионального представительства по России и странам СНГ Международной федерации производителей фонограмм (IFPI): Разговоры о том, что принятие проекта Сергеева приведет к разграблению российской интеллектуальной собственности, нарушению авторских прав и обогащению каких-то отдельных компаний, правдивы только в том, что всем компаниям, работающим легально, например, на музыкальном рынке, этот законопроект действительно кажется привлекательнее альтернативного. Ведь он не приведет к ломке только-только сформировавшегося рынка, к хаосу, а именно этими последствиями грозит принятие альтернативного проекта Дозорцева. Я мог бы понять обеспокоенность некоторых ученых, если бы какой-нибудь разработчик пытался протащить в проект концепцию copyright, то есть буквально "право копирования", норму, характерную для англосаксонского права. Copyright на самом деле не ставит на первое место интересы авторов. Однако оба проекта созданы в русле норм, характерных для droits d`auteur, то есть "права автора", и являющихся основополагающими в континентальном праве. Эти же принципы применялись и применяются в России.
Белла Берлянд, председатель правления Российской фонографической ассоциации, один из совладельцев компании "Синтез Рекордс": В действительности и нынешний закон не так плох, как о нем отзываются. Его нужно дорабатывать — например, определить понятие "крупный ущерб", что облегчит борьбу с пиратами; наладить конкретную схему сбора вознаграждения с телевидения и радио за использование фонограмм в пользу владельцев этих фонограмм — эта норма существует в законе, но она пока не действует из-за отсутствия необходимых подзаконных актов. Но работа эта ведется. У меня лично ушло столько сил на работу над новым законом "Об авторском праве и смежных правах", который, являясь логичным продолжением ныне действующего, тем не менее, снимает ряд вопросов. А если примут проект Дозорцева, вся эта работа пойдет насмарку.
Владимир Прозоровский, руководитель юридического отдела компании BMG Russia: Авторские права и сегодня в России хорошо защищены, просто практика в этой сфере пока лишь складывается. А коли так, то в интересах государства поддерживать, а не ломать издательский бизнес — в конце концов, эти компании платят налоги. Дозорцев же говорит: давайте примем кодекс, а потом уладим все проблемы в части его нестыковок с имеющейся практикой. Но это "потом" может затянуться на много лет. На рынке воцарится хаос, который выгоден прежде всего пиратам. Принятие проекта Дозорцева создаст еще одну проблему. Дело в том, что законодательство большинства стран СНГ примерно соответствует нашему прежнему авторскому закону, то есть Россия и эти страны начнут жить по разным законам. В то же время большинство крупных западных производителей рассматривают СНГ как единое пространство, на которое можно купить, например, лицензию. Если же юридическое пространство будет разным, работать с СНГ будет много сложнее. Да и у самой России в отношениях с этими странами могут возникнуть похожие проблемы.
Юрий Злобин, председатель комиссии по безопасности информационного рынка совета предпринимателей при мэре и правительстве Москвы: Те люди, которые ссылаются на несовершенство нынешнего закона, на бездеятельность власти, говорят о невозможности бороться с пиратами в нынешних условиях,— они просто не хотят бороться. 90% тех, кто к нам обращается с жалобами на пиратов, не могут даже подтвердить свои права на те или иные объекты интеллектуальной собственности. То есть более крупные пираты, по сути, хотят бороться с более мелкими. А поскольку официально бороться у них не получается, они действуют неофициально, договариваются с мелкими пиратами и получают с них какие-то деньги. А вот те, кто может подтвердить свои права, сражаются с пиратами эффективно. Например, компаниям RMG Records, "Интенс", "Магнамедиа", "Интеллект сервис" удалось с нашей помощью снизить уровень пиратства по своей продукции с 90 до 7%.
Кстати, и простых авторов действующая ныне схема вполне устраивает. Российское авторское общество (общественная организация), используя право на коллективное управление, сегодня представляет интересы сразу всех российских авторов независимо от того, есть у них с ним договор или нет, в части взимания вознаграждения с телевидения и радиостанций, где звучат их песни. Все крупные ТВ и радиостанции платят 1,5-2% дохода и предоставляют информацию о том, чьи песни или мелодии они использовали. РАО, оставляя себе 15-20% от полученных сумм за обслуживание, переводит деньги на счет автора, если известно куда. Все популярные авторы имеют договоры с РАО. Если договора нет, РАО пытается найти автора. В крайнем случае оно зачисляет деньги на спецсчет, откуда автор их может снять по первому требованию.
Андрей Горохов, лидер группы "Адо": Когда я в 1996 году впервые обратился в РАО, там уже лежали деньги — около $20. Ежегодно я получаю от РАО по нескольку тысяч рублей. Деньги небольшие, но, с другой стороны, наши песни нечасто ставят на радио. Альтернативы этой системе я пока не вижу: как можно иначе отследить исполнение своих песен на какой-нибудь ростовской радиостанции?
Дмитрий Шумилов, композитор, бас-гитарист группы "Вежливый отказ": С 1994 года я пишу музыку для рекламных роликов. Моя музыка была использована в рекламных акциях компаний PepsiCo, Danone, "Очаково" и многих других. Помимо того что я, естественно, получаю деньги от заказчика, каждый месяц из РАО мне приходят деньги за использование моей музыки в эфире. В среднем получается $200-300, но иногда выходит и $1000.
Между тем в проекте Дозорцева предусмотрено, что такой деятельностью организации могут заниматься только на основании договоров с авторами. Игорь Михан, юрист компании "Экономика и юстиция": Сегодня к деятельности таких организаций, как РАО, не могут применяться ограничения, предусмотренные антимонопольным законодательством, то есть конкурировать с РАО сегодня сложно. Предполагается, что, если будет принят вариант Дозорцева, монополия существующих авторских обществ будет нарушена.
Впрочем, и по этому вопросу у Дозорцева больше противников, чем сторонников. Владимир Прозоровский: Вариант, предлагаемый Дозорцевым, не соответствует установившимся в мире нормам. Эффективно взимать деньги с тех же радиостанций можно, лишь действуя от имени всех. Представляете, какая путаница возникнет, если на радиостанцию будут ежедневно приходить люди и предъявлять списки тех, чьи интересы они представляют? ТВ и радио порой даже сейчас не платят, а так вообще перестанут. К тому же стоимость процедуры сбора средств для небольшой группы авторов будет сопоставима с размером выплаченного вознаграждения. Кстати, в большинстве стран Европы взиманием денег занимаются лишь одна-две уполномоченные структуры по разным направлениям: одна — в пользу авторов, другая — фонографических компаний, третья — в пользу исполнителей. Это не нарушает ничьих интересов.
Столкновение чисто научных интересов, от которых, тем не менее, зависит будущее огромного рынка, продолжается. Большинство теоретиков и практиков на стороне Сергеева, но, скорее всего, будет принят проект Дозорцева.
Впрочем, некоторые эксперты уверены, что выбирать не из чего. Александр Добровинский, руководитель адвокатской конторы "Добровинский и партнеры": Оба проекта мало проработаны, содержат большое количество дефектов юридической техники и требуют существенной доработки. Михаил Шингарев, заведующий адвокатским бюро "Арбитражсудправо": Проекты можно охарактеризовать так: плохой и очень плохой. С одной стороны, нельзя не согласиться с концепцией Дозорцева, предусматривающей принятие максимально полного и структурированного кодекса за счет минимизации количества отсылочных норм, блокирующего тем самым попытки чиновников в дальнейшим принимать вместо законов подзаконные акты — нередко в зависимости от того, кто сколько заплатит. А ведь так и будет, если принять лишь общие положения, каковыми, по сути, и является проект Сергеева. С другой стороны, Дозорцев, видимо, не вполне четко представляет последствия принятия его оторванного от земли и юридически весьма сырого законопроекта. Я просто не представляю, как при принятии кодекса, который сильно расходится с уже существующими законами, в судах будут рассматриваться дела, решения по которым в первой инстанции принимались до введения в действие правовых новелл, во многом попросту переворачивающих устоявшуюся правоприменительную практику. Будь моя воля, я не принимал бы ни того, ни другого проекта.
Но принимать придется. Согласно уже подписанным международным соглашениям, Россия должна в 2002 году присоединиться к Римской конвенции и договорам ВОИС, в связи с чем автоматически вступят в действие двусторонние обязательства по защите смежных прав иностранных компаний (сейчас в России не защищаются смежные права иностранных, а за границей — российских правообладателей). Выполнить эти обязательства можно, лишь приведя законы РФ в соответствие с международными, приняв соответствующие кодексы. Но принимать нельзя, не принимать — тоже нельзя. Одним словом, пат. То есть в любом случае огромный потенциал российского рынка интеллектуальной собственности так и не будет реализован в ближайшее время.
АЛЕКСЕЙ ХОДОРЫЧ
|

