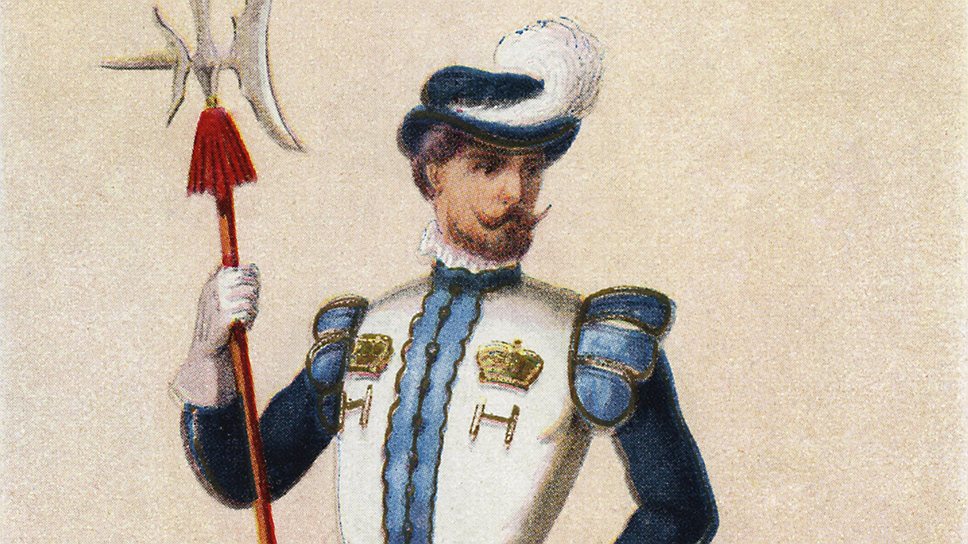Пароль бойцов за оперу
Сергей Ходнев о времени Джузеппе Верди
"Много нагрешило это дитя далекого Юга перед своим искусством, наводнив весь мир своими шарманочно-пошлыми измышлениями, но и многое простится ему ради той несомненной талантливости, искренности неподдельного чувства, которые присущи каждому произведению Верди".
Петр Ильич Чайковский вывел (не стесняясь прозрачной аллюзии на евангельский рассказ о грешнице, которой "многое простится за то, что она возлюбила много") эту, говоря начистоту, порядком высокомерную тираду в 1872 году. "Дитяти далекого Юга", как легко подсчитать, тогда еще и шестидесяти не исполнилось; только что прогремела "Аида", впереди был "Реквием", а потом "Отелло", а потом еще "Фальстаф". Уж шарманочные или не шарманочные, но "измышления" его как тогда, в 1872-м, наводняли мир, так и теперь составляют становой хребет любого оперного театра.
Сто с лишним лет, прошедшие после Джузеппе Верди, ровно ничего тут изменить не смогли — хотя ХХ век видел крушение, переоценку и трансформацию стольких оперных репутаций, которые когда-то казались так или иначе незыблемыми.
Грех перед своим искусством — который ему вменял вовсе не один Чайковский, а как минимум половина тогдашнего истеблишмента музыкальной Европы,— у Верди был прежде всего один, но для многих фатальный: он был не Вагнер. То есть в смысле человеческой приятности и симпатичности Верди, конечно, у своего знаменитого немецкого погодка выигрывал шутя. По случаю нынешнего юбилейного года создателю "Кольца нибелунга" как раз припомнили все его тягостные, иногда до невыносимости, черты: капризный, мнительный, мелочно и болезненно самолюбивый, деспотичный, бездумно любящий роскошь не по средствам и склонный беззастенчиво эксплуатировать окружающих — от коллег-музыкантов до коронованных особ (никто не поручится за то, сколько великих вагнеровских начинаний удалось бы реализовать в полной мере, если бы не экзальтированная дружба Людвига Баварского, открывшего перед Вагнером сундуки своего казначейства).
У Верди же и не самые приятные свойства характера имели какой-то более ординарный масштаб — ну хитрил, ну любил поворчать и пожаловаться на невыносимость своей профессии. Все-таки была в его натуре, сообразно происхождению, щедрая толика основательного крестьянского здравомыслия. Она выручала: несмотря на все периодическое брюзжание, сдается, что он был мало склонен изводить себя рефлексией по поводу собственного творчества, терпеливо, без бурь и душевных кризисов, переживал всевозможные невзгоды (чего стоит смерть первой жены и двух детей во время его работы над комической оперой "Король на час, или Мнимый Станислав") и довольно спокойно относился к самой ядовитой критике.
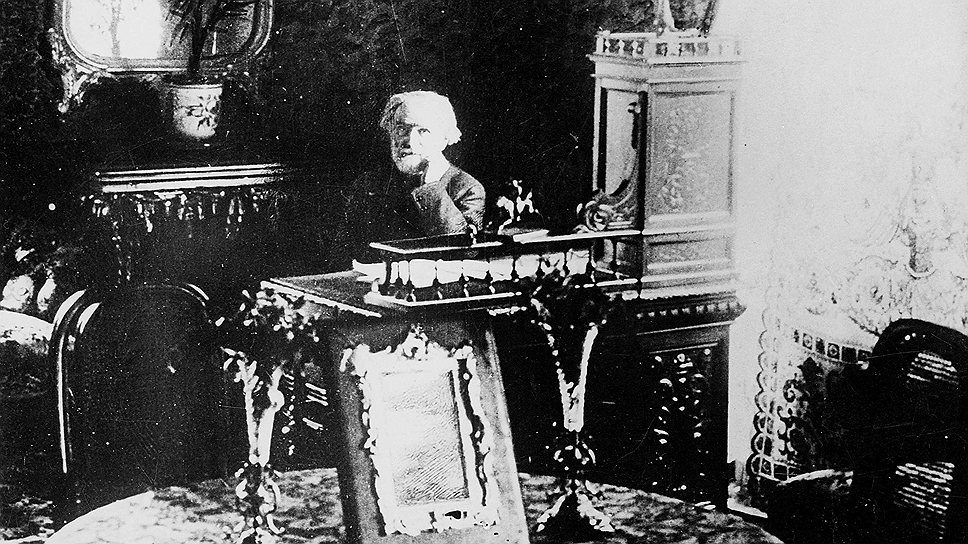
Джузеппе Верди у себя дома, середина 1870-х
Фото: AFP / Roger Viollet
Прослышав про подобного свойства высказывания в свой адрес, тот же Вагнер, что греха таить, не то что в одном городе избегал бы находиться с хулителем, а еще бы и изничтожил его статьями и брошюрами. А Верди многих зоилов (скажем, Ганса фон Бюлова, называвшего Верди "развратителем художественного вкуса") потом, если их сводила жизнь, приветствовал скорее беззлобно. И с точно такой же беззлобной иронией, например, смотрел на склоне жизни на униженные реверансы миланской консерватории — которая все никак не могла себе простить, что когда-то, в 1831 году, отказала в приеме будущему светочу итальянской музыки.
Все это знали, но в самом творчестве Верди на вкус передовой публики конца позапрошлого века сильно проигрывало именно то, что было несходно с Вагнером. Казус с миланской консерваторией, может, и комично смотрелся, но в результате музыкальное образование Верди — тут уж ничего не поделаешь — было весьма поверхностным. Великих австро-немецких симфонистов (которых он застал немало — родился при Бетховене, а в последние годы его жизни уже вовсю творили Густав Малер и Рихард Штраус) честно не любил, да и вообще сомневался в том, что музыка без пения так уж нужна.
Даже самым гениальным его вещам никогда не служило посылкой сознательное желание опередить свое время и создать "музыку будущего". При всем своем колоссальном даре мелодиста он совершенно не стеснялся мотивчиков таких простодушно-легкомысленных, что у любого радетеля о будущем оперы эпохи fin de siecle (уверенного в том, что этот жанр непременно должен воссоздавать дионисийское величие древнегреческого театра или поджаривать слушателя на медленном огне декадентской истомы) они обречены были вызывать гнев и ужас. И адресовался Верди-композитор не к грядущим поколениям и не к толпе заботливо выращиваемых им адептов собственного культа, а в основном к персонам, настроенным на более посюсторонний и прагматичный лад — импресарио, директорам и, разумеется, публике, да не концертной, а театральной, которая в Италии и по сю пору бывает о-го-го какой вздорной.
Властительных меценатов, готовых заботливо и беспрекословно опекать своего "менестреля на готовых хлебах", в жизни Верди, почитай, не было — не считать же таким мимолетное участие хедива Египта, заказавшего Верди "Аиду" (египетский правитель был большой охотник до гяурских оперных новинок и, кстати, присылал Вагнеру щедрые пожертвования: вот одно из немногих биографических звеньев, которые объединяют двух титанов оперы XIX столетия).

Памятник Джузеппе Верди в Парме
Фото: DIOMEDIA / TIPS Images RM
Кто его знает, может, мир действительно получил бы совсем другого Верди, если бы начинающий маэстро поступил бы в консерваторию или вовсе поехал бы в Вену, Мюнхен или Дрезден штудировать контрапункт и искусство оркестровки под руководством неуступчивых немецких учителей. И затем каким-нибудь волшебным образом получил бы возможность творить, не думая о публике вовсе. Как вздыхал тот же Чайковский, "сколько сладких минут мог бы он (Верди) доставить тоскующему человечеству!" (хотя тоскующее человечество en masse, похоже, и так не жалуется в связи с Верди на недостаток сладких минут).
Но вырастила Верди, как бы то ни было, совсем другая среда, куда менее оранжерейная. Хотя и невероятно колоритная. Это в остальной Европе в XIX веке задавала тон сеть элегантных придворных театров больших и малых столиц, в которых о кассовых сборах думали не слишком трепетно. Италия же сохраняла в этом отношении нравы, с одной стороны, более патриархально-провинциальные, с другой — более коммерческие. Почти те же, с которыми Россини сталкивался тогда, когда Джузеппе Фортунио Франческо Верди еще лежал в колыбели; да что там, они и при Вивальди уже были почти такими же.
Репертуарных театров не было в принципе. Не было вообще представления о том, что театр должен с аккуратностью и размеренностью тянуть свою лямку большую часть года. Сезон итальянских оперных трупп мог продолжаться три-четыре месяца, а то и меньше, несколько недель. Гвоздем такого сезона, разумеется, должна была оказываться новая опера. Сколько, вы говорите, этот Вагнер писал свою оперу о Тристане и Изольде? Пять лет? Не смешите меня. Per Bacco, зачем! Если маэстро Доницетти было достаточно и двух недель, а маэстро Россини — и того меньше?
И естественно, писать желательно было не в тиши какой-нибудь дальней укромной виллы, а прямо на месте, в гуще событий и в тесном контакте с певцами и певицами. Ибо они упорно не желали сдавать свои позиции не только главного аттракциона, но и главного сокровища, даже чуть ли не главного оправдания самого существования итальянского оперного театра. Не в 1830 и не в 1840, а в 1876 году Верди сетовал: "Наша публика слишком возбудима и никогда не довольствуется одной только примадонной, которая, как в Германии, требует от 18 тыс. до 20 тыс. гульденов в год. Здесь требуют нескольких оперных певиц, совершающих поездки в Каир, Санкт-Петербург, Лиссабон, Лондон, которым нужно платить от 25 тыс. до 30 тыс. франков в месяц". Больше трех-четырех месяцев таких не продержишь, это ж разориться можно, но без них тоже нельзя — рассердится слушатель, которого оберегали до такой степени, что даже не тушили во время представлений свет в зрительном зале — чтобы публике не помешать общаться, делать визиты и лорнировать соседей.
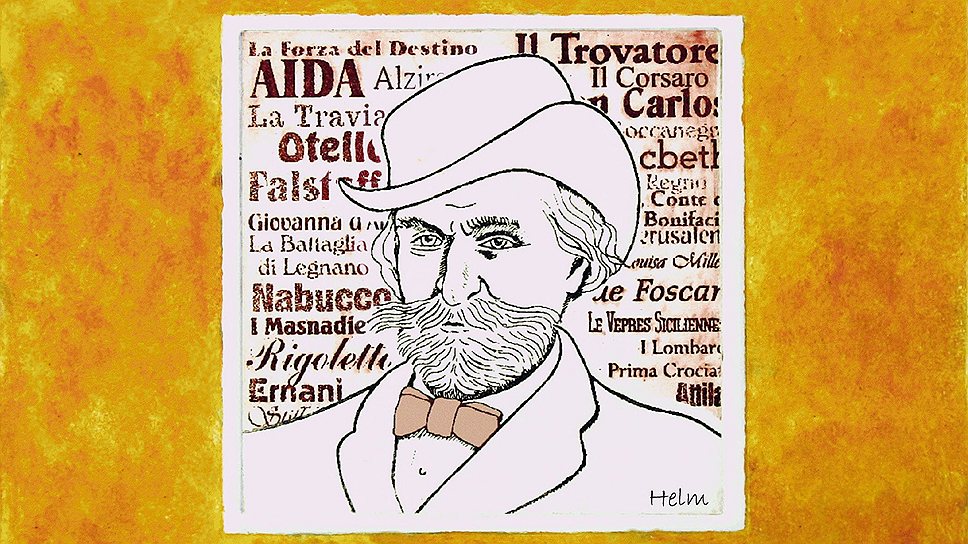
Афиша к "Аиде", 1920
Фото: DIOMEDIA / Lebrecht Music & Arts
А еще ведь была цензура. Точнее, для полного счастья, сразу несколько цензур. В Милане и Венеции — цензура габсбургского "королевства Ломбардо-Венецианского", в Риме — папская, в Парме — бурбонская и так далее, в каждой избушке свои погремушки. Впрочем, все в равной степени боялись возможной атаки на духовные скрепы монархического строя, и привычные к этому либреттисты послушно перекраивали оперы по первому требованию.
Это вердиевскому "Риголетто" даже как-то повезло, и развратный герцог Мантуи вместе с его шутом Риголетто выглядят стопроцентно органичными героями этой душещипательной истории, хотя вообще-то в драме Виктора Гюго фигурировали французский король Франциск I и шут Трибуле — но драму эту знают куда меньше, чем оперу Верди. Однако при этом до сих пор есть какая-то нелепая противоречивость, допустим, в судьбе вердиевского "Бала-маскарада", главным героем которого должен был стать шведский король Густав III, а стал после цензурной правки колониальный губернатор Бостона Ричард Уорвик: иногда в современных постановках меняют Рикардо на Густаво, иногда нет, но при этом все исходную ситуацию помнят. Опере "Жанна д'Арк" тоже не повезло, национально-освободительные обертоны истории Орлеанской девы цензуру расстроили, поэтому поначалу перелицованная опера шла под названием "Ориетта с Лесбоса" — но над этим-то сейчас разве что посмеиваются.
Публика, вообще говоря, могла сохранять постыдное равнодушие по вопросу о том, кто именно сейчас поет на сцене, Жанна д'Арк или Ориетта Лесбосская — главное, пела бы хорошо. А все равно вердиевские свободолюбивые намеки она ловила на лету. Все знают, что хор пленных евреев из "Набукко" был гимном итальянской национально-освободительной борьбы (хотя на самом деле их было много, этих использованных в качестве знамени вердиевских хоров), что даже фамилия композитора была паролем для борцов Рисорджименто (VERDI можно прочитать как аббревиатуру "Vittore Emmanuele Re d'Italia" — имеется в виду первый правитель объединенного государства Виктор-Эммануил Савойский); пусть даже сам Верди в отличие от Вагнера никакой тяги к политиканству не питал и, несмотря на то что новая Италия признала его одним из отцов отечества, своими государственными обязанностями откровенно тяготился.
Но единая Италия была потом, когда уже Верди получил в свое распоряжение театры Парижа и Санкт-Петербурга — хотя и там тоже не все было сахар; в Петербурге-то еще ничего, даже известную своим образцово абсурдным либретто вердиевскую "Силу судьбы" дирекция императорских театров приняла без возражений, а в Париже его вынуждали следовать местным традициям "большой оперы". 21 из 26 его опер была написана для той, старой, раздробленной и отсталой Италии.
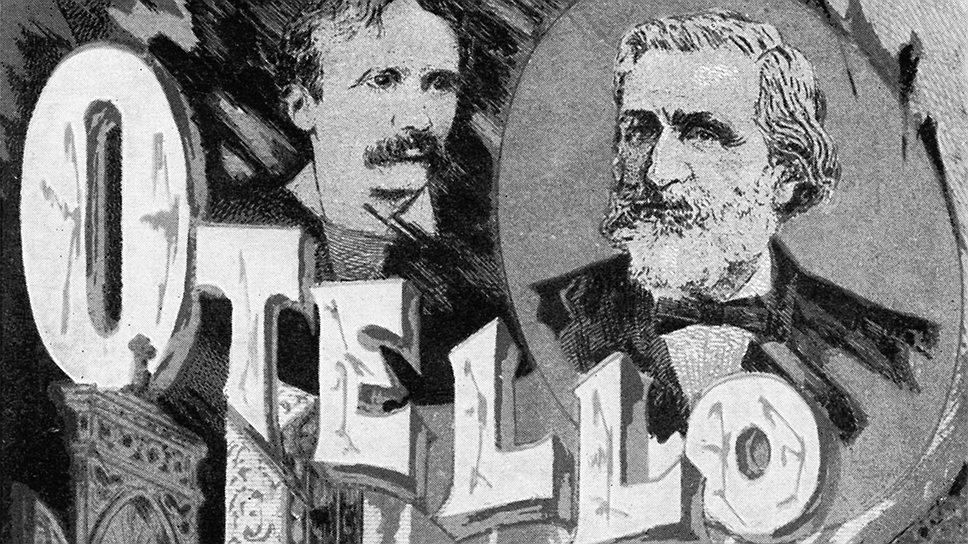
Постер к опере "Отелло", 1887
Фото: DIOMEDIA / Lebrecht Music & Arts
Это и самое поразительное. В условиях, когда многие его соотечественники-современники (которых даже специалисты не упомнят — сейчас кажется, что между троицей Россини--Доницетти--Беллини и приходом веристов в итальянской опере, кроме Верди, никого и не было) штамповали быструю халтуру, Верди создавал, пусть и не каждый раз, абсолютные оперные чудеса, которые любишь без всяких предисловий и комментариев. Цензура, неудачные либретто, понукания импресарио, сжатые сроки (которыми Верди в отличие от пресловутой троицы явно тяготился) — все это имело в конечном счете довольно скромное значение.
Отчасти дело было в той любви к возможностям хорошо ограненного голоса, которую Верди никакое отсутствие систематического музыкального образования не помешало унаследовать от бельканто. В самом деле, его самые популярные и самые прекрасные страницы невозможны без вокального звука и его жизни — это из "Кольца нибелунга" можно сделать симфонию. А представьте себе (возьмем уж самое непотребно расхожее) песенку Герцога из "Риголетто" или "Застольную" из "Травиаты" без голосов: какое-то приятно-бессмысленное "труляля", ничего больше. Но только в отличие от композиторов бельканто у Верди получалось и драматический каркас в музыке своих опер так обставить, чтобы каким-то первозданно-бессовестным образом пробирало даже сейчас.
Вот вроде и Вагнера все готовы уважать, и Чайковского, и дирижерские заслуги Ганса фон Бюлова, а все равно именно в Верди осознанно или неосознанно видят некую квинтэссенцию, некий эталон итальянской оперы со всеми ее извечными чертами, и великими, и смешными. И, заметьте, примирительный разговор о чем-то не совсем обычном в оперном театре, будь то барокко или, наоборот, что-то авангардное, почти всегда начинается с одной фразы: "Да, я понимаю, это не Верди, но..."