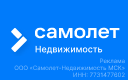Алексей Любимов дал концерт памяти Нейгауза
Хотя концерт не был персональным посвящением, а входил в цикл, посвященный великому пианисту и педагогу XX века, Любимов оправдал смысл посвящения вполне. Трудно было представить себе Нейгауза сидящим в зале и слушающем Скрябина и Прокофьева вперемежку с Сильвестровым и Уствольской. Но его ученик смог увязать воедино высокий пианизм, завещанный Нейгаузом, и близкий учителю просветительский пафос — пусть в наши дни им присущи совсем другие интонации.
"Настоящий клавирабенд!" — восхищенно сказал мне знакомый после концерта. Меломаны скептики, и такие характеристики раздают не всем и не всякий раз. Тем более ценно, что относились эти слова не к программе из Шопена или Рахманинова, а к сложному комплекту под названием "Русская фортепианная музыка XX века". При всем богатстве темы как таковой Любимов рассказал своей игрой о большем — можно сказать, о музыкальной истории вообще.
Среди вещей, сыгранных им в этот вечер, были опусы и хорошо знакомые, и знакомые лишь узкому кругу публики, и знакомые в лучшем случае по названию.
К последним относится "Musica stricta" (1956) Андрея Волконского — возможно, первый факт додекафонии в советской музыке и открытие пути, по которому пошли в дальнейшем Денисов и Шнитке. Додекафония русская — с певучими секстами, чувственно подчеркнутыми Любимовым, "строгость", обозначенная в названии — западная, ибо опирается на столь близкие Любимову (последователю Волконского) барочные формы.
Не менее строга Третья соната (1952) Галины Уствольской: кликушески экспрессивные повторения автор (в чем она сильна) нагнетает с оглядкой на честный контрапункт. Пианизм Любимова здесь принял на себя аскезу, словно подчеркивая церковные истоки — полифонические и хоральные, то есть католические и протестантские — этой жесткой, как сухой порошок, конструкции. Но когда насыпано достаточно ложек, музыка Уствольской доходит до рубежа структурного способа мыслить — возникают остановки и провалы. И тогда становится понятно, что отсюда могла брать свое начало музыка Валентина Сильвестрова — Вторая соната (1975) с ее зияющими черными дырами.
В отличие от Волконского, Сильвестров представляет ту линию русской музыки XX века, где важен не технологический, а парамузыкальный аспект — и эта линия начата не кем иным, как Скрябиным. Черный аккорд, от повторения которого никак не может оторваться соната, — скрябинских генов. И тут уже прямой резон играть позднего Скрябина.
В отсвете неконвенционального устройства программы часто играемые поздние опусы Скрябина и Прокофьева (каждый из этих композиторов подытоживал свое отделение) словно лишились эстрадных привилегий. Правда, должен сказать, что Скрябин в исполнении Любимова мне не нравится. Чтобы хорошо играть Скрябина, нужно быть пьющим, неврастеничным, с воспаленным воображением. А пасторский тон игры Любимова хоть и бежит сухости, но любые запрещенные средства отвергает начисто. Думаю, впрочем, что многие были счастливы услышать именно такие Пять прелюдий op. 74 и такую Девятую сонату.
Зато за Седьмую сонату Прокофьева можно было отдать полжизни. Можно заметить, что ритмика Волконского обязана прокофьевской, и можно лишь признать, что сам Прокофьев не обязан никому — разве что немного Стравинскому. Мастер старинных и современных стилей, Любимов нашел для Прокофьева столько способов артикуляции, сколько их было у Баха или Куперена, и столько оттенков динамики, сколько их есть в сериализме Булеза. Еще удивительнее: Прокофьев оказался родным братом Уствольской в том, как его фактура стремилась к разрешению в чистые октавы, совсем как в ранней полифонии. Никогда еще не слышал таких чистых консонансов. А может быть, столь безупречно настроенного рояля. А может быть, и столь неожиданных созвучий в мыслях совсем разных композиторов.
Остается добавить, что большую часть программы (даже додекафонного Волконского) Любимов сыграл наизусть, не допустив ни единой помарки — в том числе виртуозные "Piano Rag Music" Стравинского (колкости звучаний немного помешала романтическая акустика Малого зала) и финал Прокофьева. В прелюдии Дебюсси, сыгранной на бис, Любимов уже мог просто наслаждаться своей властью над благодарной паствой.
Клавирабенд Алексея Любимова потому и оказался настоящим клавирабендом, что суть его замысла представала не в сочетании произведений, пусть и нетрадиционном, а раскрылась в самой игре. И в этом, спустя многие годы, он оказался ближе к Нейгаузу, чем тогда, когда был его учеником.
ПЕТР Ъ-ПОСПЕЛОВ