Экономика протеста: рутинное сопротивление
Как крестьяне боролись с землевладельцами
Классовая борьба — это не всегда восстание и революция. В доиндустриальную эпоху крестьяне сопротивлялись лендлордам по-другому. А успех борьбы во многом зависел от аграрных техник и транспортной доступности.

Фото: Heritage Images / Getty Images
«Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя» — такими словами заканчивают Карл Маркс и Фридрих Энгельс «Коммунистический манифест», которому в этом году исполняется 170 лет.
Оружие слабых
Однако 99,9% классовой борьбы вовсе не революции. Открытый протест — роскошь и редкость, которую власти редко когда допускают. В основном борьба идет в скрытой, «презренной» форме. Американский антрополог Джеймс Скотт называл такое поведение оружием слабых. В экономическом противостоянии это по большей части скрытые действия, «рутинное сопротивление»: саботаж, мелкое воровство, обман, брак, порча имущества (луддизм), уход с работы. В политическом смысле все то же самое плюс уклонение от налогов и рекрутской повинности, дезертирство, бегство в места, где государственный контроль слаб, для интеллигенции — использование эзопова языка и попытка культурной гегемонии в обществе.
«Рутинное сопротивление» обходится без лидеров, протестов, лозунгов и транспарантов.
По словам Скотта, его можно сравнить с упрямством запряженного в ярмо буйвола или с попыткой собаки украсть еду со стола.
Впрочем, иногда слабые становятся способны (либо от отчаяния, либо от осознания собственной силы) и на открытые совместные и организованные действия: отказ от налогов и других конфискаций, луддизм, забастовки, требования экономических и политических уступок, демонстрации, бунт, революция. Плодов которой, впрочем, слабые часто лишаются: победившие революционеры сами становятся сильными.
Баланс нападения и обороны
Рутинное и изредка открытое сопротивление — инструмент классовой борьбы подвластных против властвующих. Однако его ценность и возможная трансформация во что-то более серьезное во многих случаях определяется существующей технологией и чисто практическими возможностями применения «оружия слабых» (классики марксизма явно недооценили этот фактор).

Открытые восстания крестьян в истории случались сравнительно редко
Фото: Universal Images Group / DIOMEDIA
Здесь уместна аналогия из истории военного дела. Баланс между наступательным и оборонительным вооружением всегда был неустойчив и регулярно смещался то в пользу нападения, то в пользу обороны (помимо классика Карла фон Клаузевица см., например, Jack S. Levy «The Offensive/Defensive Balance of Military Technology: A Theoretical and Historical Analysis»).
Скажем, средневековая феодальная раздробленность в Европе во многом оказывалась обусловлена приоритетом оборонных технологий — хорошо защищенный замок феодала был почти неприступен. Отсюда во многом автономизация владетельных аристократов и политическая система, в которой король был в лучшем случае «первым среди равных». К середине XV века распространение огнестрельного оружия и пушек сдвинуло баланс в пользу наступления, замки стало возможным стереть в пороховую пыль. Далее баланс в течение нескольких столетий колебался то из-за развития фортификационной науки (бастионная система укреплений, доведенная до совершенства инженером Себастьеном Вобаном), то из-за изменений в тактике наступления и прогресса огнестрельного оружия.
Первая мировая война с ее окопными технологиями, колючей проволокой и пулеметными дотами, из которых один солдат мог косить сотни наступающих, опять вернула неоспоримое первенство обороне. «На западном фронте без перемен», война на истощение — все годами сидят в окопах и ждут, у кого первого рухнет не оборона, а экономика.
Вторая мировая с уже продвинутыми танками и боевой авиацией, в свою очередь, сделала доминирующим нападение — стал возможным молниеносный блицкриг.
Появление ядерного оружия вновь в какой-то степени вернуло приоритет обороне из-за возможности разрушительного ответного удара.
Аналогичные сдвиги в обороне и наступлении характерны и для классовой борьбы.
Злаковое рабство
Джеймс Скотт (кстати, считающий себя учеником российского исследователя крестьянства Александра Чаянова) посвятил стратегии и тактике борьбы подчиненных со своими угнетателями сразу несколько книг, как, например, «Weapons of the Weak» и «Domination and the Arts of Resistance».
В основном Скотт писал о сопротивлении крестьян в традиционных доиндустриальных обществах. И, как это ни прискорбно, сила редко оказывалась на их стороне.
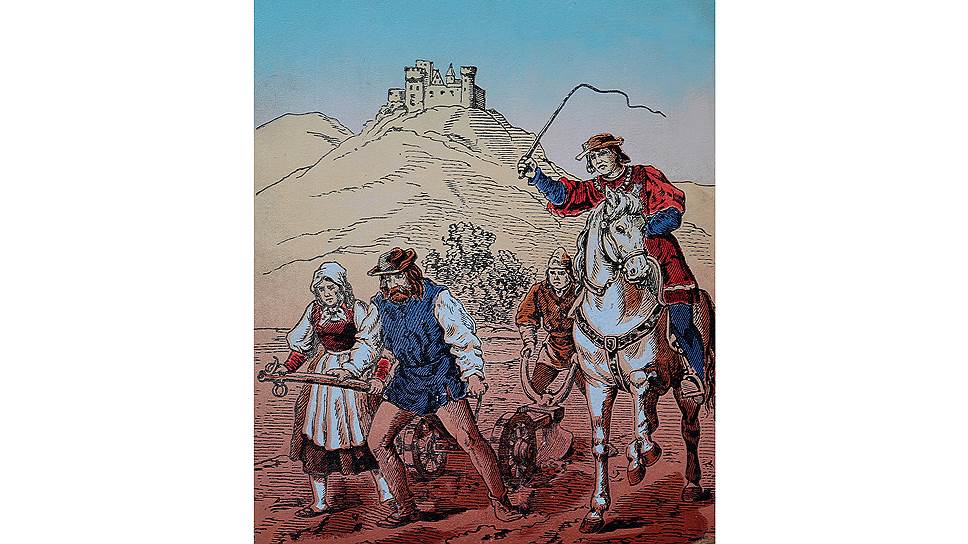
Возможности крестьянского сопротивления всегда ограничивались насилием правящих классов
Фото: Universal Images Group / DIOMEDIA
Радикальным сдвигом в пользу «сильных» стала трансформация агротехник на самой заре появления государств. От мобильного подсечно-огневого земледелия со смешанными посевами зерновых, бобовых и корнеплодов древние агротехнологии пришли к стационарным формам с преимущественно монокультурными посевами злаков. Кто был их автором, мы не знаем, прошло несколько тысяч лет, да и появились они сразу в нескольких местах.
Что важно с точки зрения баланса сил — ориентированное на злаки монокультурное стационарное земледелие, и в особенности ирригационное рисовое, способствовало фактическому закрепощению крестьян.
И собственно, появлению государства как такового. С точки зрения власти такие агротехники — идеальная основа для реализации насилия над крестьянами и конфискации плодов их труда.
Во-первых, крестьянин становится прикрепленным к определенному земельному наделу, который тут же мог учитываться сборщиками налогов.
Во-вторых, навязанная властью монокультурность крестьянского хозяйства приводила к тому, что весь урожай приходился примерно на одно и то же время, что очень удобно для его конфискации угнетателями либо для карательных операций (например, для сожжения поля).

Рис — идеальный злак для эксплуатации
Фото: Print Collector / Getty Images
Монокультурность часто экономически более эффективна, однако эффективность не была главным приоритетом крестьянина. Для него основой было выживание, а последнее лучше всего достигалось диверсификацией рисков (условно: из-за погоды погибли зерновые, но выжили корнеплоды, в итоге крестьянин не умрет с голоду). Используя финансовый жаргон, крестьянин хеджировал риски. Навязанная властью монокультурность давала больший урожай на единицу площади (преимущественно конфискуемый лендлордами), но одновременно подводила крестьян под существенно более высокие риски голода и очень большие трудозатраты.
В-третьих, зерно имеет очень высокую энергетическую плотность, его экономически оправданно конфисковывать и транспортировать на большие расстояния. И наконец, зерно можно долго хранить.
Спасибо черной смерти
В таких условиях тактикой выживания «слабых» стали мелкий саботаж и обман (сквоттинг земель лендлордов, браконьерство в их землях, занижение налоговой базы, уклонение от рекрутчины). Но последние формы были доступны только более или менее свободному крестьянству, например жившему в Европе после чумной эпидемии ХIV века.
Именно черная смерть в Западной Европе несколько сместила баланс сил в пользу крестьян и наемного труда как такового, просто потому, что стало меньше рабочих рук и труд стал гораздо больше цениться.

Чума, возможно, одна из причин возвышения Западной Европы
Фото: Granger / DIOMEDIA
Паттерн закрепощения крестьян в России и других странах Восточной Европы (к примеру, в Польше были еще более жесткие формы рабовладения, чем в России), возможно, отчасти определялся именно меньшим уроном, который понесли от черной смерти эти территории.
Некоторые историки (см., скажем, Robert C. Allen, «The British Industrial Revolution in Global Perspective») даже считают, что Первая индустриальная революция в XVIII веке отчасти объяснялась отдаленным влиянием черной смерти на стоимость рабочей силы в Англии (в совокупности с некоторыми иными факторами, например, с крупными залежами высококачественного и легкодоступного угля в Уэльсе).
Бегство в Зомию
Для менее свободных крестьян в других регионах оставалась другая радикальная опция «рутинного сопротивления»: бегство — туда, куда политическим и экономическим угнетателям тяжело распространить свою власть. Или в регионы, где невозможно крупномасштабное земледелие и нет других ценных ресурсов. Условно говоря, в фискально стерильные зоны. Чаще всего это высокогорные районы (но не плоскогорье, на котором возможно крупномасштабное земледелие). Впрочем, болотистые территории, степи и джунгли тоже иногда подходят в силу своей транспортной труднодоступности (все это своего рода аналог хорошо укрепленного замка средневекового феодала, только защищенного не толстыми стенами, а естественным географическим ландшафтом).
Скотт выделяет несколько таких этнокультурных анклавов, куда власть с трудом распространяла свои политические и экономические техники принуждения. Самый яркий пример — Зомия (условное название, придуманное голландским географом Виллемом ван Шенделем от «зоми» — горец на некоторых языках региона). Зомия — это высокогорная область Юго-Восточной Азии, включающая части территории современных Мьянмы, Лаоса, Вьетнама, Таиланда, Камбоджи, Китая и Индии.


Этнический и лингвистический состав анархичной Зомии очень пестрый: если посмотреть на этнографическую карту региона, она будет сплошь покрыта островками разных народов, сидящих на холмах и горах, окруженных совсем не похожими на них соседями. Например, в южных китайских провинциях островки народа мяо удалены друг от друга на тысячи километров — люди намеренно уходили с низин в горы от порабощавшей их империи.
Со сменой вмещающего ландшафта менялись и стратегии сопротивления и выживания беглецов. Вместо риса они иногда переходили на более высокогорную кукурузу, с монокультур — на разнообразные посевы (их сложнее конфисковать из-за разных сроков созревания), со стационарного земледелия — на смешанное или подсечно-огневое со сменой полей (меньшая привязка к земле), со злаков — на корнеплоды (меньшая энергетическая плотность, из-за которой их менее выгодно конфисковывать; плюс неприхотливость и возможность длительного скрытого хранения под землей). Недаром в Латинской Америке корнеплод юку (она же маниока и кассава в Африке) называют хлебом войны.

Кукуруза — неплохой вариант «антигосударственного» земледелия, но уступающий корнеплодам
Фото: Print Collector / Getty Images
Сильно помогала и низкая плотность населения: чем она меньше, тем меньше добра можно поиметь с беглецов, что делало зоны их обитания фискально стерильными (транспортировка чего-либо ценного в болотах и горах также часто превращала это занятие для власти в бессмысленное).
Зомия — самый масштабный пример бегства слабых от сильных, создавший на краю империи периферийную анархию.
Кроме Зомии можно вспомнить похожие анклавы в Латинской Америке (причем существующие до сих пор, как, например, потомки бежавших от испанских поработителей племен, перебравшиеся на плавучие тростниковые острова высокогорного озера Титикака между Перу и Боливией). Казаки и старообрядцы в России тоже яркий пример такого бегства — в нашем случае на различные фронтиры империи, где те же казаки перенимали у местных народов кочевые техники мобильности и фактически становились отдельным субэтносом.
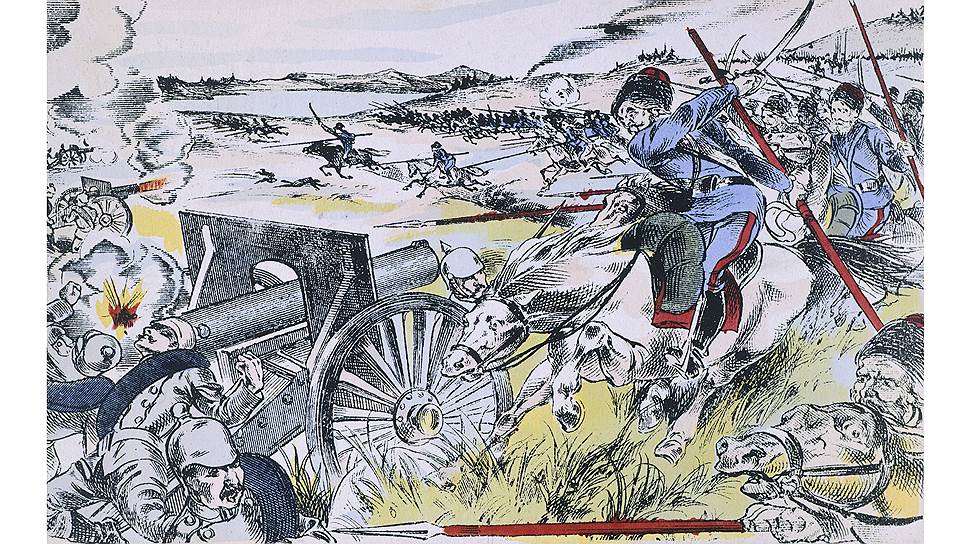
Казаки и старообрядцы — русские крестьяне, бежавшие от государства. Казаков, впрочем, удалось реинтегрировать
Фото: DeAgostini / Getty Images
Среди болотистых убежищ можно выделить комьюнити беглых черных рабов маронов в Дисмал-Свомп — топкой низине между Виргинией и Северной Каролиной. Более современный пример — район низин на границе Ирака и Ирана, который в течение столетий был убежищем анархических обществ так называемых болотных арабов. Полностью поработить их в конце ХХ века смог только иракский диктатор Саддам Хусейн.
Регионом, в меньшей степени сформированным беглецами, но сохранившим определенную анархическую автономность и эгалитарный уклад, является высокогорный Северный Кавказ, на завоевание которого у Российской империи ушло более 100 лет (см., например, цикл лекций Владимира Лапина «История завоевания Кавказа»). В некотором смысле черты Зомии есть и в суперуспешной современной гористой Швейцарии, где центральное правительство и сегодня исключительно слабо, а власть осуществляется на уровне крошечных кантонов при частом использовании прямых референдумов.
Только города
Постепенно государство и эксплуатация проникали все глубже, «переваривая» анклавы анархии. Где-то в итоге получилось успешное, но слабое государство, как Швейцария. Ту же Зомию (на ее территории сейчас проживает около 100 млн человек) современные национальные государства в какой-то степени уже «переварили», хотя и не до конца, в особенности в де-факто разделенной на многочисленные автономии Мьянме.
Крестьянские формы доиндустриального рутинного сопротивления в наше время сходят на нет просто потому, что крупномасштабное земледелие практически полностью вытеснило традиционный уклад.

Мексиканская революция 1910–1917 годов — один из многочисленных примеров крестьянского восстания, ничем, по сути, не закончившегося
Фото: Granger / DIOMEDIA
Мелкие фермеры все чаще не могут соперничать с крупными агрохолдингами, имеющими преимущества в эффекте масштаба, и вынуждены либо занимать небольшие высокомаржинальные ниши на рынке (fair trade agriculture, различные экониши), либо выбивать субсидии у государства, либо опять бежать — но уже в города.
Продолжение сериала «Экономика протеста» читайте на следующей неделе. Подписывайтесь на нас www.kommersant/weekly и читайте истории с продолжением.

