Вот это уровень!
Как кудиты меняют квантовые вычисления
Российские физики уже долгие годы работают над переходом от привычных двухуровневых квантовых систем — кубитов — к многоуровневым — кудитам. Почему этот шаг открывает принципиально новые возможности, «Ъ-Науке» рассказал Алексей Федоров, руководитель научной группы Российского квантового центра, директор Института физики и квантовой инженерии МИСИС.
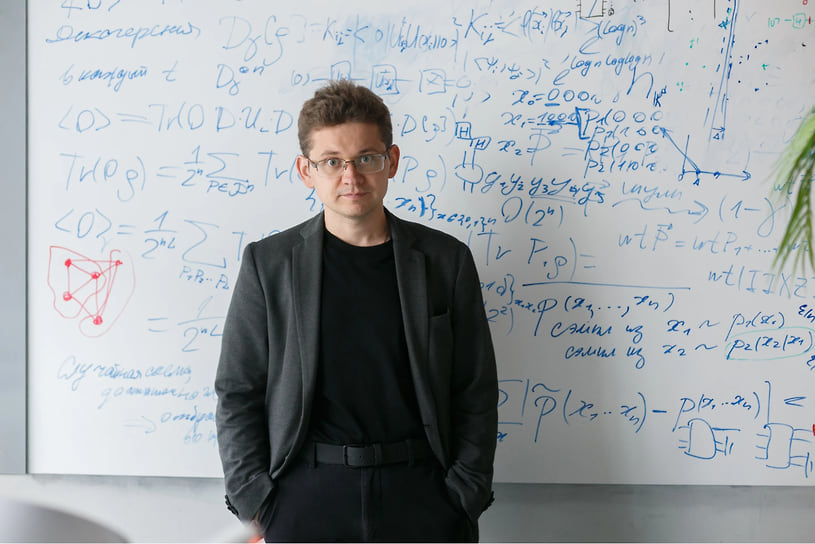
Алексей Федоров
Фото: Издательство «Редколлегия»
Алексей Федоров
Фото: Издательство «Редколлегия»
— Что стало отправной точкой для перехода от кубитов к кудитам в квантовых вычислениях?
— Мы начали эту работу более десяти лет назад. Отправной точкой стали исследования фундаментальных аспектов квантовой физики. Идейным вдохновителем направления был Владимир Иванович Манько из Физического института им. П. Н. Лебедева РАН. Он задал, казалось бы, простой, но парадоксальный вопрос: «Мы привыкли думать о квантовой запутанности как о явлении между несколькими объектами. Но если кудит — это формально набор кубитов (например, четырехуровневая система — кукварт — эквивалентна двум кубитам), можно ли говорить о запутанности «внутри» одного кудита?».
Владимир Иванович посвятил этому целый цикл работ и предложил нам с Евгением Киктенко развивать тему. Это было еще в наши студенческие годы, на старте работы в Российском квантовом центре. После первой публикации мы задумались о применении изученных принципов работы с кудитами для квантовых вычислений.
В 2015 году мы опубликовали две статьи на эту тему: одну в Physical Review A о возможностях управления кудитами, вторую в Physics Letters A о реализации квантового алгоритма Дойча с использованием одного кудита. Каждая из них к сегодняшнему дню набрала по примерно 100 цитирований. Позже к нашей группе присоединилась Анастасия Николаева — талантливый исследователь, сыгравшая большую роль в последующих результатах.
За последние пять лет в рамках проекта Лидирующего исследовательского центра (ЛИЦ) и «дорожной карты» по квантовым вычислениям, реализуемой «Росатомом», мы заметно продвинулись в изучении кудитов. Помимо «упаковки» нескольких кубитов в один кудит мы предложили использовать дополнительные уровни как буферы для хранения информации в ходе вычислений.
Особенно хорошо эта архитектура проявила себя при декомпозиции гейта Тоффоли — важной операции в квантовых вычислениях, которая используется, например, в алгоритме Гровера для поиска по неупорядоченной базе данных, а также в алгоритме Шора для факторизации. Обычно для ее реализации требуется либо большое количество двухкубитных операций, либо столь же высокое число вспомогательных кубитов. Мы показали, что кутрит (трехуровневая система) в режиме «кубит + дополнительный уровень» позволяет реализовать гейт Тоффоли значительно эффективнее.
В рамках проекта ЛИЦ были проведены как теоретические, так и экспериментальные исследования. Вместе с группой Николая Колачевского мы изучили различные типы кодировок кудитов, реализации операций и методы считывания. Мы также реализовали на них квантовые алгоритмы Гровера и Бернштейна — Вазирани и показали, что по числу операций кудиты имеют преимущества.
В ходе реализации «дорожной карты» также удалось масштабировать систему до 50 кубитов в виде 25 кудитов. Это один из самых мощных кудитных квантовых процессоров на сегодняшний день.
— Какие особенности в управлении кудитами отличают их от кубитов с точки зрения как науки, так и дальнейшей инженерии, то есть создания прикладных продуктов?
— Управление кудитами зависит от физической платформы, которая используется для их реализации. Сегодня в России и в мире развиваются четыре основные платформы квантовых вычислений: ионы в ловушках, нейтральные атомы, фотоны и сверхпроводники. В случае ионов и атомов необходимо точнее управлять большим числом уровней энергии. Это усложняет эксперименты, но в последние годы мы наблюдаем бурный рост возможностей по приготовлению состояний кудитов, выполнению операций и измерений.

Алексей Федоров
Фото: Издательство «Редколлегия»
Алексей Федоров
Фото: Издательство «Редколлегия»
Сегодня кудитные процессоры реализованы на всех основных платформах. Появляются и первые результаты на полупроводниках. Мы активно общаемся с научными группами из Европы, Австралии и Китая. Кудиты — пример того, как уникальная тема снимает барьеры: к нам приходят запросы со всего мира, приглашают на конференции, цитируют.
— В вашей недавней статье систематизированы подходы к работе с кудитами. Как вы оцениваете потенциал масштабирования?
— Сегодня мы выстраиваем системы из десятков кудитов. Следующий рубеж — сотни и тысячи. В теории методы и подходы к масштабированию уже исследованы, но в физике и инженерии критерием истины остается практика.
Главные вызовы — это коды коррекции ошибок, сейчас в основном ориентированные на кубиты, и различия в реализации двухкубитных операций на разных платформах; универсальный подход пока не выработан.
— С какими основными техническими трудностями вы столкнулись при реализации кудитной архитектуры?
— Изначально мы были не в тренде, и первые реализации кудитов воспринимались научным сообществом со скепсисом. Шаг за шагом мы это преодолевали. Надо отметить, что примерно в те же годы мы увидели значительный прогресс в разработке квантовых процессоров на основе кудитов в Австрии, Китае и США.
С технической стороны основная сложность заключалась в том, что существует множество способов использовать кудиты. Но как и по какому критерию выбрать лучший?
Представим, что у нас есть квантовый алгоритм в виде цепочки кубитов и физическая платформа, которая позволяет реализовывать кудиты определенной размерности. Мы знаем, что можно «упаковывать» несколько кубитов в один кудит, можно использовать дополнительные уровни как буфер хранения, можно комбинировать оба подхода. Но этого недостаточно. Нужно не просто понимать, что такой переход возможен, а уметь для каждого конкретного случая — с учетом платформы, алгоритма, требований к точности — найти оптимальное или хотя бы субоптимальное отображение кубитной цепочки в кудитную.
Эта работа потребовала глубокого вовлечения всей команды. Особенно большую роль сыграли Анастасия Николаева и Евгений Киктенко, которые за последнее время предложили ряд новых подходов, в частности для алгоритма Гровера, а также разработали архитектуру кудитного компилятора: он получает на вход алгоритм в стандартном формате Open QASM и выдает оптимальную кудитную реализацию.
В результате нам удалось систематизировать наиболее продуктивные подходы к применению кудитов — это и стало содержанием публикации в Review of Modern Physics. Исследование поддержано грантами Российского научного фонда и программой «Приоритет-2030» в университете МИСИС. Значительную часть результатов мы докладывали на совете РАН по квантовым технологиям, что позволило получать обратную связь, сверяться с коллегами и понимать, на какие вопросы нужно иметь твердые ответы не только теоретически, но и экспериментально.
— Схемы встраивания нескольких кубитов в один кудит звучат как способ радикального повышения плотности вычислений. Можно ли уже говорить о конкретных экспериментальных успехах?
— Да, и таких экспериментов становится все больше — их число растет буквально от месяца к месяцу. Несколько научных журналов даже открыли специальные разделы, посвященные кудитам.
Наибольших результатов нам удалось добиться при работе с ионным квантовым процессором, созданным в рамках «дорожной карты» усилиями коллективов РКЦ и ФИАН им. П. Н. Лебедева. Мы реализовали несколько алгоритмов, в частности Гровера и Бернштейна — Вазирани. Они являются для нас своего рода бенчмарками: используются в первую очередь для оценки корректности работы процессора и позволяют на практике сравнить эффективность кудитного и кубитного подходов.
Кроме того, с использованием кутритов (трехуровневых кудитов) мы исследовали физические явления, например фазовые переходы. Оказалось, что достаточно одного кутрита, чтобы промоделировать фазовый переход с нарушением симметрии «четность — время». Это был первый эксперимент в России, в котором один и тот же квантовый алгоритм запускался параллельно на двух разных платформах: ионном процессоре ФИАН-РКЦ и сверхпроводниковом процессоре МИСИС-РКЦ.
— Как изменился инструментарий при переходе на работу с многоуровневыми системами?
— Переход к кудитам потребовал серьезной модификации программного стека и разработки специализированных компиляторов — я уже кратко упоминал это выше. Такие компиляторы должны принимать на выход стандартные описания алгоритмов в кубитной форме и трансформировать их в эффективную реализацию с использованием кудитов. Это нетривиальная задача, поскольку число возможных отображений растет экспоненциально по мере усложнения алгоритмов.
Также потребовалась отдельная работа с калибровкой состояний. Дело в том, что большинство подходов в квантовых вычислениях адаптированы под два уровня — классические кубиты. Конечно, есть схемы, в которых задействованы и дополнительные уровни: например, в квантовых вычислениях с нейтральными атомами третий уровень часто используется при реализации двухкубитных операций. Но при переходе на полноценную кудитную архитектуру необходимо адаптировать всю систему — инициализацию, операции, измерения — так, чтобы данные на других уровнях не терялись и не искажались.
— Один из прорывов — это новая формулировка первого критерия ДиВинченцо. Как оно было воспринято международным сообществом?
— За последние десятилетия стало очевидно, насколько полезны критерии ДиВинченцо, предложенные почти 30 лет назад. Расширение первого критерия для работы с кудитами было воспринято позитивно: это логичное развитие теории, открывающее путь к работе с более сложными квантовыми системами. При этом остальные критерии практически не требуют изменений: сама концепция остается прежней.
Для научного сообщества любые шаги по расширению парадигмы — это всегда повод для важного вопроса, почему мы делаем именно так и не пробуем иначе. Ведь кудиты, по сути, были рядом с самого начала: например, первая двухкубитная операция в знаменитой группе нобелевского лауреата Д. Уайнленда в 1995 году была проведена в одном ионе — а значит, в кудите. Но позже аналогия между классическими и квантовыми вычислениями в части перехода от битов к кубитам на какое-то время взяла верх. Сейчас становится все более очевидно, что для масштабирования нужно использовать все доступные ресурсы и возможности.
Кстати, профессор ДиВинченцо — редактор журнала Review of Modern Physics, так что, полагаю, он нашу работу видел.
— Как ваш подход к проектированию кудитных процессоров отличается от тех, что разрабатываются в международных центрах (например, в Австрии или Китае)?
— Сегодня группы, работающие с кудитами, активно движутся к масштабированию, то есть наращиванию числа кудитов в системах. У каждой команды своя специфика.
Например, в Австрии также работают с ионами, но используют кальций, тогда как мы в группе РКЦ-ФИАН — иттербий. Это порождает целый ряд технических отличий. Компания IonQ, которая недавно сделала ряд громких сделок на рынке квантовых вычислений с IDQuantique и Ionics, тоже рассматривает кудиты, но анализирует возможность использования других базовых операций для квантовых вычислений. В Китае есть несколько ярких экспериментов по работе с кудитами на фотонах, а в США — на сверхпроводниках, этим занимается компания Rigetti.
Разработка квантового процессора — очень сложная инженерная задача, и в этой области наблюдается высокая конкуренция идей. Практически каждую неделю выходят новые научные статьи, посвященные кудитам.
— Какие платформы наиболее перспективны для реализации кудитных процессоров?
— Мы работаем со всеми основными физическими платформами, но наиболее зрелыми сегодня можно считать эксперименты с ионами в ловушках. Пока однозначного лидера среди платформ нет, а возможно, его и не будет. Скорее всего, мы увидим специализацию: разные типы квантовых процессоров будут решать разные классы задач.
Конечно, идея универсального квантового компьютера остается важной и вдохновляющей, но если трезво взглянуть, вопросы: «можно ли сделать универсальный квантовый компьютер?» и «какое применение квантовых вычислений лучшее здесь и сейчас?» — лежат в разных плоскостях.
Сегодня, к примеру, мы видим, что платформы на нейтральных атомах хорошо масштабируются и подходят для задач оптимизации. А ионы и сверхпроводники демонстрируют высокую точность в задачах квантовой химии и квантового машинного обучения. Фотонные квантовые вычисления работают вообще по другой модели — там стало ясно, какой именно класс задач ускоряется, а именно — бозонный сэмплинг. Сейчас как раз активно исследуются его практические применения — в химии, анализе графов и других направлениях.
Так что в перспективе мы, скорее всего, увидим не доминирование одной универсальной платформы, а распределенную систему с глубокой специализацией и синергией между технологиями.
— Как изменится подход к реализации квантовых алгоритмов под влиянием кудитов?
— Основной фокус при разработке квантовых алгоритмов — снижение требований к «железу». Главный вопрос — как решить задачу с минимальными затратами ресурсов, то есть с меньшим числом кубитов и операций.
Недавно коллеги из Google показали, что если раньше для факторизации 2048-битного числа (типичная задача в криптографии) считалось необходимым 20 млн кубитов, то после ряда оптимизаций это число удалось снизить до 1 млн. И это все в рамках классического подхода с кубитами.
Полагаю, что кудиты могут стать мощным инструментом дальнейшего повышения эффективности квантовых алгоритмов, что быстрее приведет к практическому применению квантовых компьютеров. В конце концов, природа дает нам такие возможности — почти все физические платформы для квантовых вычислений позволяют работать с многоуровневыми системами. Почему бы это не использовать? Ведь мы движемся не просто к квантовому компьютеру как концепции, а к физическим пределам вычислений. И кудиты в этом смысле — наш естественный союзник.


