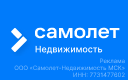Светская действительность
Анна Наринская о "Горьких лимонах" Лоренса Даррелла
"Горькие лимоны" Лоренса Даррелла являют собой элегантный эталон множества жанров — эталон путевой прозы, автобиографической прозы, политической прозы. То, что творения Даррелла — люби не люби его модернистски загогуленный "Александрийский квартет" — и вообще пример прекрасной прозы, остается за скобками. Он писатель признанный и обласканный — в России, возможно, даже больше, чем где бы то ни было,— и в дополнительных восторгах общего рода не нуждается. В случае "Горьких лимонов" предметом экстренных восторгов становится писательское и человеческое умение Даррелла обманывать и обманываться.
Это относится в основном к политическому ракурсу книги. "Горькие лимоны" — довольно подробное и вполне тенденциозное описание трех — с 1953-го по 1956-й — лет, проведенных Дарреллом на Кипре. Именно в эти годы всего лишь декларативное до того движение греков-киприотов за "Эносис" ("Союз") — освобождение от британского сюзеренитета и присоединение к Греции — оформилось в террористическую организацию ЭОКА ("Народная организация борцов за свободу Кипра"), объединившую всю греческую молодежь острова. Тогда же на этой почве стали прорастать зерна будущей смертельной вражды между греческим и турецким населением Кипра.
Перемены народных настроений в "колыбели Афродиты" оказались тем более чувствительными для Даррелла, что, романтически проживая в малюсенькой деревеньке Беллапаис у стен полуразрушенного готического монастыря, он зарабатывал на жизнь, занимаясь связями с общественностью при британском колониальном правительстве острова. Представлять это правительство ему пришлось как раз в то время, когда губернатор Джон Хардинг ввел на острове не только комендантский час, но и смертные приговоры всякому, у кого найдено оружие. Эту информацию читатель хорошо переведенных Вадимом Михайлиным "Горьких лимонов" узнает из подстрочного примечания к тому месту в книге, где Даррелл слегка многоречиво, но увлекательно описывает "этого маленького, терпеливого и отважного человека", которого не смогли сбить с толку ни поражение, ни победа, для которого "долг — единственная истинная вера".
Но к сэру Джону Хардингу, а также к изъявлению уверенности, что Кипр отдавать нельзя, так как он "часть станового хребта Империи, которая должна напрячь все силы, чтобы выстоять под напором времени" (не то чтобы сегодня с этим очень хотелось спорить), Даррелл подходит только к концу книги. Потому что никакая отповедь антибританскому и античеловечному терроризму не может заставить его пожертвовать прекрасной хронологичностью. Он начинает повествование на корабле, отправляющемся на Кипр из Венеции, и небыстро ведет нас сквозь воды, горы и пыльные равнины сонного острова, делая по пути множество остановок.
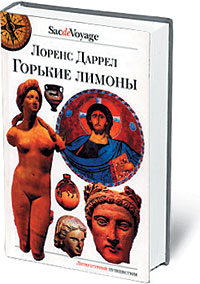
Например, в винном подвальчике у Клито, где Даррелл впервые сталкивается с антибританскими настроениями в лице пьяного пастуха Франгоса, вопрошающего: "Ну что, англичанин, так стыдно, что и сказать нечего?" На это прекрасно говоривший на греческом Даррелл хладнокровно ответил, что нет, не стыдно, потому что его брат погиб при Фермопилах, сражаясь плечом к плечу с греками. "Это было, конечно же, чистой воды вранье, мой брат сидел сейчас по уши в каком-нибудь африканском болоте и отлавливал зверюшек для европейских зоопарков. Но шок был полнейший". Этот самый брат — не уступающий Лоренсу в известности Джеральд — наведывается на Крит к середине повествования. "Он слегка расстроился, узнав, что я похоронил его при Фермопилах, однако к последствиям этой истории отнесся с воодушевлением; это означало, что его везде станут угощать дармовой выпивкой в знак признания семейных заслуг".
С не меньшим энтузиазмом, но совсем с, естественно, иной интонацией Даррелл рассказывает о британском светском обществе тогдашнего Кипра — места, которому только гражданская война помешала превратиться в аристократический вариант Танжера. Даррелл описывает вечера, проведенные в обществе путешественницы и писательницы Фрейи Старк, политика и писателя сэра Харри Люка, шпиона и писателя Патрика Кинросса, архитектора и бонвивана, но не писателя Пирса Хабборда, с сентиментальной легкостью и без всякой иронии. В его словаре слово "светский" лишено каких-либо коннотаций, кроме положительных. Это делает "Горькие лимоны" только еще более прекрасной книгой — книгой талантливого светского человека о прекрасном, хоть и слегка неприбранном острове. И о населяющих этот остров людях — таких вроде бы неиспорченных и поэтичных,— которые вдруг стали вести себя совсем не светски.