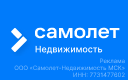Книги жалоб
Ярмо жизни и тень рая в прозе Людмилы Петрушевской
Людмиле Петрушевской, автору бесчисленных рассказов, пьес, сказок и стихотворений, великой русской писательнице, исполнилось 85 лет. В советское время не признанная и не печатаемая, сегодня она живой классик — и, как часто бывает с авторами в этом статусе, не до конца понятый. Петрушевскую часто считают летописцем свинцовых ужасов советского быта, но есть в ее текстах что-то такое, что выходит за пределы советского, равно как и за границы ужаса и быта, и до некоторой степени оправдывает и нашу жизнь, и нашу словесность.

2014
Фото: Павел Головкин / ИТАР-ТАСС
2014
Фото: Павел Головкин / ИТАР-ТАСС
Среди необозримого множества текстов Петрушевской есть нечто наподобие мемуаров, рассказы о себе, собранные в книге «Истории из моей собственной жизни», и если попытаться разглядеть в этом сборнике — и в биографии автора — законченный сюжет, это получится что-то вроде андерсеновской сказки. Голодное, нищее детство, мытарства на случайных работах, бытовая неустроенность, долгие годы непризнания и непечатания. Но однажды судьба, ведомая чьей-то доброй рукой, доиграет намеченную партию — и все будет оправдано, искуплено и возмещено. Если подсчитывать регалии по википедийной статье, так и случилось: Петрушевская признана, премирована, переведена; по многократно высказанному мнению, она самый очевидный кандидат на Нобелевку из пишущих по-русски. Безусловное национальное достояние. Но как-то не совсем.
Возможно, сбивает ее оформившийся с годами статус — немного сбоку и от текущего процесса, и от устоявшихся иерархий. В самой природе ее текстов есть что-то такое, что противится даже не канонизации — а любой законченности, оформленности. Ее как будто не удается дочитать до конца.
Первое, что поражает начавшего читать Петрушевскую,— ее речь, такую называют сказовой: как будто подслушанная, вынутая из очереди, телефонной будки, коммунальной кухни. Наверное, можно определить эту речь еще точнее; в рассказах Петрушевской часто возникает ремарка — мол, с героиней произошло то-то и то-то, а в конце дня она пересказывала все это подруге по телефону. Это и есть ее жанр — вечерний телефонный разговор, в котором перемывают кости и сетуют на судьбу; поток даже не сознания, а жалоб.
Повод для них всегда есть. Героини Петрушевской вертятся в колесе сансары — в специфически советской его модификации: готовка, уборка, стирка, ссоры, измены, скандалы, обмен квартиры, уход за малыми детьми и немощными стариками. Денег никогда нет, еды всегда не хватает. Работа какая-то есть, неважно какая — «убегала на дежурство в больнице», «занималась техническим переводом»,— но ее всегда непосильно много и при этом недостаточно, чтобы свести концы с концами. Мужчины тоже присутствуют, но такие, что лучше бы их не было. Нельзя сказать, что в советскую литературу совсем не проникал быт, но у Петрушевской только он и есть, это единственное, что имеет значение: все главное в жизни совершается в тесной малометражке, где-то между кухней и спальней. И говорится о нем от имени его главных действующих лиц — и вместе с тем жертв, обреченных на гибельное увязание в быте уже по факту того, что родились женщинами.
Как бы дико ни прозвучало это сравнение, но, в сущности, Петрушевская делает то же, что Солженицын в «Архипелаге»: рассказывает о судьбах, которые иначе канули бы без следа, выводит на поверхность ту сторону жизни, о которой не принято говорить, дает голоса всем несправедливо замученным, взывающим из глубин бездны. Замученным — уже не советской репрессивной системой, но самой жизнью. Рассказ за рассказом она размечает карту несчастных женских судеб, и было бы непростительным снобизмом считать, что эти несчастья — «то, что бывает с другими». Что они локализованы в позднем застое, в жизни так называемых «простых людей».
Нет, это про любую судьбу, которой не выпала редкая, один на миллион, и всегда мимолетная удача. Про любую судьбу, в которой есть неразделенная любовь, непонимание близких, разрыв с детьми. Болезни, роды, старение, смерть. Впрочем, Петрушевская далека от простодушной сентиментальности, ее героини — не безвинные жертвы, которых «среда замучила». В них самих есть какой-то надлом, осколок зеркала тролля, из-за которого даже дежурная жизненная рутина оборачивается самоистязанием и мучительством близких. Рок, врожденный изъян, травма, передающаяся из поколения в поколение,— какой бы ни была причина, она создает дурную маниакальную-депрессивную бесконечность: те же, кто от нее страдает, ее и воспроизводят. Но и тут Петрушевская никого не обвиняет, не говорит свысока и, что называется, в третьем лице. Наоборот — всегда делает что-то такое, что пробивает защитную броню: не прячься, это и про тебя, это и к тебе имеет отношение. Что-то такое, от чего становится жалко всех — и себя тоже.
При всем обилии бытовых примет это жизнь, низведенная до первоэлементов, ушедшая в архаику,— так она приобретает мифологическое измерение. Здесь разыгрываются сюжеты будто из древних книжек или индийского кино: соблазненные и покинутые, разлученные в детстве и встретившиеся уже выросшими, чудесным образом исцеленные, наказанные за какую-то тайную вину. Здесь верят в приметы и заговоры, и магическое в текстах Петрушевской буквально пронизывает реальное: гиперреалистический рассказ у нее — всегда на грани страшной сказки, и наоборот.

1991
Фото: Ulf Andersen / Getty Images
1991
Фото: Ulf Andersen / Getty Images
Явь переходит в сон, сон — в смерть, герои перемещаются по этим мирам — часто внутри короткого текста — во всех направлениях. «Все хоть и были под банкой, но какие-то дружные, благостные, словно заглянули в загробный мир и увидели там свежий воздух и пластмассовые цветы и дружно выпили за это дело». Мертвые помогают живым, живые открыты сигналам из миров невидимых и бестелесных. Эти метафизические сквозняки отыграны и в языке: литературовед Марк Липовецкий замечал, что поток речи у Петрушевской часто нарушается каким-то языковым сдвигом, нарочито выпирающей неправильностью. Как будто дверь подперли деревяшкой или прорвалась ткань видимого мира — и оттуда веет чем-то таким. Не совсем человеческим.
Это парадокс, с которым сталкивается каждый читатель Петрушевской: в ее текстах все предельно вещественно, кашки-кастрюльки-бельишко, даже если это страшная сказка про черное пальто или отсохшую руку, это все равно знакомый домашний ужас, как из палаты пионерлагеря после отбоя. И все равно — за каждой пеленкой или катетером, капризом или случайной связью как будто прячутся неведомые сверхчеловеческие силы. То ли судьба, которая направляет героев по заранее расчерченным траекториям. То ли природа, которая задает круговой ритм любовей, рождений и смертей. То ли хтоническая энергия этой местности, искажающая своим гибельным излучением все разумное и доброе. То ли, наоборот, чья-то добрая рука.
Кормежка, уборка, обиды, ссоры — тот быт, который остается ниже радаров искусства, который искусство стремится преодолеть во имя чего-то высокого, как в инсталляции Кабакова «Человек, улетевший в космос из своей комнаты». Но у Петрушевской кроме быта ничего нет и все ходы в иные миры погружены в него же, он монотонен, безысходен, проклят — но где-то и освящен. Сквозь все сиюминутные приметы и мифологические структуры нет-нет да и проступает древняя, как мир, идиллия — Филемон и Бавкида, старосветские помещики — чаще как след или напоминание, иногда как моментальный снимок, на мгновение проступившая картинка, и никакие окружающие героев коварные разлучницы и черные риэлторши не могут этому помешать. Место действия рассказов и пьес Петрушевской — это всегда черт знает что, но это же и рай; все высокое — счастье, гармония, бог — скрыто живет внутри этих пеленок и скандалов, больше ему просто некуда поместиться.
У Петрушевской есть такой прием: когда тянется и тянется без конца безысходная тягомотина, и накручиваются безжалостные подробности, и уже нечем дышать от ужаса — и вдруг на самой кромке, буквально в последней фразе, история резко взлетает ввысь, и этим движением снимается тяжесть или распутывается давящий клубок обстоятельств. Появляется какой-то просвет или хотя бы намек на просвет. Или, как в рассказе «Свой круг», через круговорот пьянок, разводов, измен, немотивированной жестокости вдруг проступает план спасения, который рассказчица готовила для своего ребенка. Как будто на ткани жизни проступают симпатические чернила или сдвигаются на миллиметр декорации — и становится виден тайный смысл всего: что обратной стороной этого ужаса была бесконечная любовь — и больше ей негде было сбыться.
И для этого движения нужно поистине божественное знание и милосердие — которого всегда не хватает читателю, не дочитавшему и не понявшему Петрушевскую до конца, но которым чья-то добрая рука сполна наделила автора.
Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram