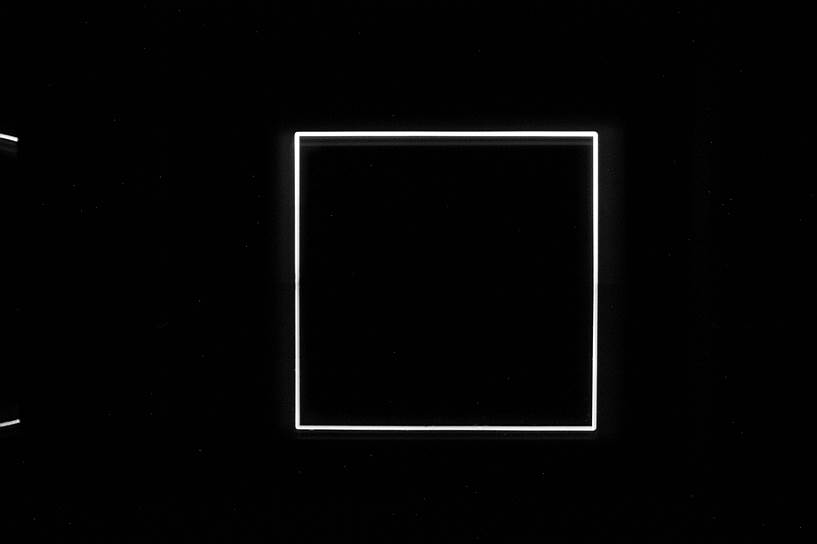11 марта в Москве открылись две инсталляции, созданные композитором, режиссером и педагогом Хайнером Геббельсом — одним из самых радикальных авторов в мире современного искусства, выдающимся и успешным нарушителем всех художественных конвенций. Первая театральная постановка Хайнера Геббельса в России "Макс Блэк" состоялась в прошлом сезоне в московском Электротеатре. Ольга Федянина поговорила с Хайнером Геббельсом о ландшафтах, голосах и доверии к публике
В Новом пространстве Театра наций открылись две ваши инсталляции. Есть ли что-то, что их объединяет, какое-то сходство, связь?
В основе обеих инсталляций находится "петля", loop. Первая — "Landscape 3" — это 15-минутный видео-loop, картина оживающего ландшафта в индустриальном пространстве. Это очень спокойный, медитативный фильм, снятый в Дуйсбурге во время оперного спектакля на музыку композитора Луи Андриссена. В нем нет ни одного человека, но при этом очень много движения в кадре — и это движение может передаваться зрителю, затягивать его. Это инсталляция очень тесно связана с важной для меня темой децентрализации восприятия, со свободой самому выбирать ракурс и фокус, как, собственно, это и происходит с ландшафтом. Отсюда и название.
Вторая инсталляция — "Genko-An 107031" — родилась из опыта, который посетил меня самого в буддистском монастыре в Киото. Я не буддист, но это произвело на меня очень сильное впечатление. Там можно было рассматривать традиционный японский сад через одно из двух окон — одно круглое и одно квадратное. Меня вообще всегда очень занимала идея формата, влияния формы на наши впечатления. И так как я композитор, то я захотел попробовать перенести этот опыт восприятия через два разных формата на совсем другой сад, акустический. На сад голосов, который я создаю сам. В этом саду есть голоса авторов, с которыми я работал, например Хайнера Мюллера или Алена Роб-Грийе, людей, с чьими текстами я работал, но так никогда и не получил возможность с ними встретиться. Голоса философов, например Ханны Арендт. Русские голоса из прошлого — Алексей Крученых, Анна Ахматова. Кроме этого, тут есть "чужие" голоса — этнографические записи из Азербайджана, из Грузии, из Африки, из Греции, которые я интегрировал в инсталляцию. Но в любом случае все это тексты, в которых центральную роль играют вопросы ритма, формы, звучания, артикуляции.
И этот сад голосов мы помещаем в пространство, которое делает для зрителя возможными одновременно и большую открытость, и большую концентрацию. Пространство, которое на свой лад тоже является храмом — храмом культуры, храмом прошлого и свободы.

Вы обещаете публике сплошь приятные вещи, это как-то непривычно для современного искусства. Вы, кажется, самый дружелюбный из современных художников.
Это, наверное, от того, что я вообще не люблю провокации. Кроме того, я вообще не склонен недооценивать публику. И совсем не претендую на то, чтобы быть умнее своих зрителей и слушателей. Мой главный интерес — делиться с ними. Я хочу делиться своим опытом. Делиться вопросами, которые у меня есть. Делиться возможностями, которые у меня есть. А не залезать на высокую кафедру, чтобы изрекать мудрости или послания, которых у меня нет.
Это довольно непривычная позиция.
Эгалитарные отношения с публикой — они ведут свое происхождение от моей собственной политической истории в 1970-е годы, от участия в движении Sponti, объединявшего людей, которые по природе своей были прежде всего глубоко антиавторитарны. Я по-прежнему хочу, чтобы мои глаза и глаза публики были на одном уровне. Я думаю, что все возможности восприятия в человеке уже существуют. Я их не могу подарить своим зрителям или слушателям. Зато я могу сделать другое: попытаться предоставить публике то пространство, в котором богатство и широта восприятия могут проявиться.
Такие места, как Новое пространство, вполне в состоянии возвращать людям возможности восприятия, которые у них исчезают в современной городской повседневности, потому что она полностью замусорена совсем другими впечатлениями, звуками, надписями, вывесками, бегущей рекламой. Искусство, по-моему, должно сегодня идти в противоположном направлении — не копировать этот переизбыток, а, наоборот, создавать свободные пространства, дарить время. Обе мои инсталляции предназначены именно для этого.
Я хочу на минуту вернуться к 70-м годам. Ваши студенческие годы — это было очень политизированное время. Глядя на вас сегодня, я бы сказала, что вы человек совершенно аполитичный. Сидите в подвале, в чужом городе, складывая какие-то ландшафты из голосов...
Все зависит от того, какой смысл мы вкладываем в понятие "политического". В узком смысле — в смысле политики партий — оно меня не интересует совсем. Но это я ненавидел и в 70-е. Мы всегда предостерегали от того, чтобы говорить от имени других. От имени "униженных и оскорбленных". Потому что дело как раз в том, чтобы каждый униженный и оскорбленный мог говорить сам за себя. А не так, что "за них", "от их имени" принимались бы решения.
И не нужно думать, что мы можем понятие политического зарезервировать для себя. Публика тоже приходит к нам сильно политически загруженная — и мы должны признать за ней способность соотносить свой политический опыт с тем, что они видят на сцене или слышат вот в таком подвале. Причем соотносить очень индивидуально. И в этом и есть шанс современного театра. Не в том, что в конце спектакля все 500 зрителей в зале (или, как в нашем случае, 15 посетителей инсталляции) будут думать одно и то же. Наоборот. Я уверен, что если театр или инсталляция оказываются для тебя сильным впечатлением, то ты так или иначе оказываешься наедине с собой. Возможно, это звучит странно, но я действительно уверен, что сильное художественное переживание может быть только индивидуальным.
Мы как раз привыкли к тому, что идеальное театральное переживание коллективно, что оно должно объединить весь зал в одном вздохе или в одном потоке слез.
Нет, вот на это у меня просто аллергия. И как у зрителя тоже. Когда весь зал смеется, мне не смешно.
В вашем представлении зритель и художник — очень одинокие люди.
Нет, прежде всего свободные. Речь идет о свободе воспринимать, свободе видеть то, что могу видеть только я один, думать то, что я хочу думать, и делать только то, что я как художник хочу делать.
Вы, режиссер, композитор, в данном случае выступаете как автор инсталляций. "Вещи Штифтера" принято называть спектаклем, но, наверное, можно назвать и инсталляцией. Как вы относитесь к тому, что в современном искусстве все чаще путаются жанры и определения?
Мне это совершенно безразлично, речь всегда идет только о том, чтобы найти для того, что ты хочешь выразить, подходящую форму.
Но публика — она же хочет знать, на что она идет.
Не думаю. Я вообще с очень большим доверием отношусь к публике. Конечно, иногда люди приходят со слишком ясными представлениями о том, что они хотят или что им должны показать. И тогда то, что они видят, наталкивается на большое сопротивление. Но и из этого сопротивления они всегда могут извлечь полезный для себя опыт. Например, узнать, что мир изменился и границы в искусстве куда-то передвинулись.
Но вообще-то я, конечно, всегда надеюсь на публику, которая приходит без ожиданий. Поэтому, кстати, у очень многих моих вещей непонятные названия. Когда люди читают в афише "Песнь о Нибелунгах", то у них сразу же возникает определенное представление. А у меня спектакль называется "Эраритраритжака" или "Хаширигаки" — и с этим никакое представление не свяжешь. В нашем случае инсталляция называется "Genko An" — и москвичам это название вряд ли что-то говорит. Разве что тем из них, кто был в Киото.
Можно ли научиться или научить этой открытости? Или можно только положиться на то, что она образуется сама собой?
Я не думаю, что открытости можно научить, она должна развиться сама. Но это развитие можно очень сильно затруднить, а можно облегчить — с помощью дружелюбия.
Можно ли сказать, что Новое пространство — это достаточно дружелюбное место в данном случае?
Безусловно. Я вообще всегда очень специальным образом обращаюсь с пространством. И мне в данном случае важно, во-первых, то, что я все время получаю поддержку со стороны Веры Мартынов и ее команды, со стороны всех служб Театра наций. И во-вторых — то, что это пространство, которое посвящено искусству, то есть чему-то новому, чему-то, что возникает на наших глазах, а не повторению пройденного.
Новое пространство Театра наций («Landscape 3» до 22 марта, «Genko-An 107031» до 29 апреля)