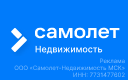Выставка
В Москве стартовал третий международный Форум культурных пересечений Rozamira, проводимый агентством Marka:ff под эгидой Шанхайской организации сотрудничества и представляющий различные искусства стран ШОС и при поддержке Московского ипотечного центра. Одним из центральных событий фестиваля стала открывшаяся в галерее на Солянке выставка "В Бухаре пускают змея. Советские художники 1930-1950-х годов в Средней Азии". Работы из запасников Музея Востока отбирала Зельфира Трегулова — один из самых известных российских музейных кураторов. Ориентальным соцреализмом восхищалась ИРИНА Ъ-КУЛИК.
Один из первых музеев, учрежденных советской властью, существующий с 1918 года Музей Востока начал закупать произведения художников, посвященные строительству социализма в азиатских республиках, в начале 1930-х годов. Примерно тогда же художников стали посылать в творческие командировки в союзные республики. Впрочем, в Азии представленные в галерее на Солянке авторы оказались по разным причинам. Кто-то там родился, как Александр Волков, в чьих работах, вопреки кондовым сюжетам и названиям типа "Колхозник" или "Штурм бездорожья", все же угадывается рука автора знаменитой "Гранатовой чайханы". Кого-то занес туда романтический порыв, как, например, ученика Казимира Малевича Александра Николаева, в начале 1920-х годов попавшего в Самарканд и оставшегося там (художник даже принял ислам и сменил имя на Усто Мумин). Кто-то регулярно ездил туда на этюды, как Семен Чуйков и его супруга Евгения Малявина, из года в год проводившие лето в Киргизии, а потом писавшие искренние (несмотря на дежурный пафос) картины про обживающих вольные степи простых и мужественных людей. Многих эвакуировали туда во время войны, как Меера Аксельрода, представленного этюдами оцепеневших, тесных и в то же время пустынных азиатских улочек; как Владимира Фаворского или Роберта Фалька, впрочем, бывавшего в Азии и до этого, в 1938 году. Ученик Филонова ленинградец Павел Зальцман, направленный на Алма-Атинскую киностудию после прорыва блокады Ленинграда, сам решил остаться в Казахстане, и даже "Библейский город" на его рисунке 1965 года населяют люди с непроницаемыми, раскосыми азиатскими лицами.
В отношении Средней Азии пресловутое выражение "национальное по форме, социалистическое по содержанию" впервые начинает восприниматься как парадоксальное сочетание заведомо несовместимых слов. Ортодоксальные названия полотен поневоле вступают в вопиющее противоречие с самим изображением: кажется, что этикетки взяты от других экспонатов. Так, "Письмо с фронта" Павла Бенькова (1945) представляет трех узбекских гурий в узорчатых одеяниях, с рассыпающимися из-под тюбетеек косами, томно беседующих над водами арыка, в кружеве импрессионистских бликов. А его же "Портрет колхозника-ударника" оказывается изображением седобородого мудреца в чалме. Впрочем, иногда и сами подписи звучат почти абсурдно. На этюде Льва Крамаренко "Шах Мухамет, таджикский рабочий" изображен именно что шах — величавый, властный, утонченный. "Национальная форма" стала отличным алиби для формальных поисков: за следование народной традиции можно было выдать все что угодно, в том числе наследие модернизма или даже отсылки к иконописи и ренессансным фрескам, как у того же Усто Мумина в полотне 1934 года "Белое золото", запечатлевшем сбор хлопка. Или в живописи работавшего в Узбекистане уроженца Нагорного Карабаха Николая Карахана.
Но азиатская экзотика не стала всего лишь прикрытием для "тлетворного влияния Запада". Так или иначе, Восток стал неотъемлемой частью советской мифологии: не случайно свое предисловие к каталогу куратор Зельфира Трегулова начинает с упоминания культового советского "истерна" "Белое солнце пустыни". В каком-то смысле именно столкновение с извечным, радикальным экзотизмом Востока и очарованность им и уравнивали советских строителей социализма и буржуазных "колонизаторов", обрекая и тех и других на своего рода "бремя белого человека" — искушение раствориться и потерять себя в этом мире, среди его обитателей, словно бы неподвластных ни своему времени, ни его трагическим обстоятельствам.