Патенты требуют четкости
Чем фармрынку грозят массовые нарушения интеллектуальных прав
В России растет число судебных разбирательств, которые затрагивают права фармацевтических компаний на тот или иной препарат. По мнению бизнеса, это может привести к хаосу в индустрии и снизить мотивацию предприятий инвестировать в создание новых препаратов. Этого же опасаются и пациентские организации.
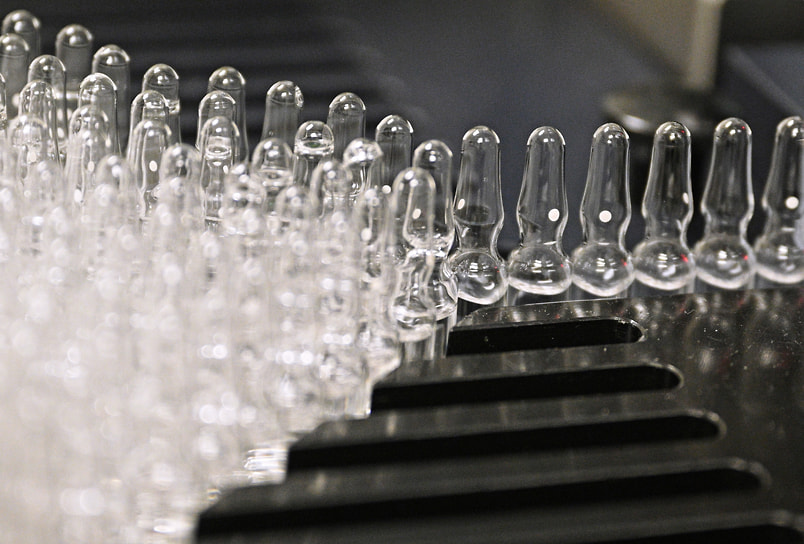
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Согласно совместному исследованию Высшей школы экономики и консалтинговой компании PBN, за последние годы количество судебных споров о защите интеллектуальной собственности в фармацевтической отрасли значительно выросло. В период 2017–2021 годов было инициировано 30 подобных дел, а с 2022 по 2025 год — уже 60. Это связано как с уходом с российского рынка ряда западных препаратов, так и со стремлением отечественных производителей заместить импортные блокбастеры аналогами несмотря на наличие у иностранных инновационных разработок патентной защиты. Дополнительно ситуация осложняется пробелами в отраслевом регулировании, которые сохраняются на протяжении длительного времени.
Разработка новой молекулы — процесс дорогостоящий и технически сложный, поэтому подавляющее большинство инновационных лекарственных средств защищены патентами. Стандартный срок патентной охраны составляет 20 лет, из которых около 13 лет уходят на этапы от открытия до выхода препарата на рынок. На разработку нового лекарства в среднем тратится порядка 2 млрд долларов, что требует возврата инвестиций через продажи, чтобы компания-разработчик могла продолжать научные исследования и производство новых лекарственных препаратов. Каждая инновация проходит строгий процесс тестирования, включая анализ тысяч молекул, из которых только малая часть достигает стадии доклинических испытаний.
Патентная защита для фармацевтических продуктов в России действует несколько десятилетий и обеспечивает исключительное право на их производство и продажу для разработчиков. После истечения срока патента на оригинальные препараты возможно производство дженериков — копий, которые проходят упрощенные исследования для подтверждения их эквивалентности оригиналу.
Тем не менее российское законодательство предусматривает возможность ограничения патентной защиты в чрезвычайных случаях. Механизм принудительного лицензирования позволяет начать производить препараты до конца срока действия патента в интересах национального здравоохранения. За последние годы случаи применения этого механизма участились. Например, во время пандемии коронавируса был принудительно лицензирован препарат с международным непатентованным наименованием ремдесивир. Аналогичная мера была применена к семаглутиду (диабетические препараты Novo Nordisk) — патент на него действует до 2035 года, но мировой спрос на него вырос быстрее, чем производитель смог обеспечить необходимый объем производства препарата.
Сегодня право на производство и поставку препарата в обход патента можно получить либо через правительственную комиссию (в рамках статьи 1360 ГК РФ), либо через судебное разбирательство согласно статье 1362 ГК РФ о принудительном лицензировании. Как отмечает глава компании «Ирвин» Михаил Степанов, первый подход уже давно зарекомендовал себя как эффективный инструмент регулирования подобной ситуации. Он предлагает уточнить критерии: например, если иностранный производитель локализовал производство в России, то принудительное лицензирование теряет свою актуальность; но если компания прекратила поставки или недостаточно обеспечила российский рынок препаратом, а поставка препарата из-за рубежа в незарегистрированной упаковке по каким-то причинам не представляется возможной, то разрешение обходить патент становится оправданным. Правительственная комиссия проявляет осторожность, вынося решение по таким случаям исключительно при наличии угрозы национальному здравоохранению, подтверждает руководитель отдела по взаимодействию с органами власти и развитию здравоохранения компании «Roche» Анатолий Клименков.
Михаил Степанов отмечает, что на фармацевтическом рынке существуют компании, которые, копируя иностранные препараты, при отказе профильной комиссии склонны обращаться в суд. Такие дела зачастую рассматриваются в закрытом режиме, чтобы избежать широкой огласки. В судебной практике пока нет четко сформировавшихся подходов к таким вопросам, но уже можно выделить некоторые тенденции. Анатолий Клименков указывает, что истцы часто ссылаются на недостаточное использование патента производителями оригинальных лекарств. Однако понятие недостаточного использования точно не закреплено в нормативно-правовой базе: например, бывает, что сравнивается общее количество пациентов с конкретным диагнозом и объем поставок препарата. При этом не учитываются факторы вроде назначения иной терапии или ограничений государственного бюджета.
Другим аргументом истцов становится большое количество несостоявшихся аукционов. Господин Клименков объясняет, что госзаказчики иногда устанавливают слишком низкие цены, ориентируясь на зарегистрированные цены не введенного в оборот дженерика, из-за чего поставщики не участвуют в торгах. Впоследствии аукцион может быть проведен снова, и препарат будет закуплен по более приемлемой цене. Но сам факт невыхода поставщиков на аукцион может преподноситься в судебных разбирательствах как пример дефектуры и/или недостаточного использования патента. Также наблюдается тенденция оспаривания зависимых патентов, когда компания владеет правами как на действующее вещество, так и на технологии или материалы, связанные с его производством. Поэтому крайне важно, чтобы при решении о выдаче принудительной лицензии с использованием механизма статьи ГК 1362 не принимались во внимание случаи дефектуры, которые не зависят от действий компании-правообладателя.
Критерий должен быть только один – это отказ в поставке, то есть «дефектура», говорит Михаил Степанов – и, по его словам, необходимо более четко прописать ее определение. «Необходимо добиться полной ясности в этом подходе – чтобы все компании на рынке четко понимали, что именно попадает под понятие «дефектуры» и в каких случаях она зависит от действия правообладателя и может привести к ситуации потери исключительных прав на патент на тот или иной препарат», – отмечает Анатолий Клименков. «В идеале наличие или отсутствие дефектуры могла бы определять межведомственная комиссия по дефектуре, которая уже существует, достаточно только внести необходимые правки в Приказ МЗ 128н и наделить комиссию такими полномочиями».
Кроме того, объясняет партнер юридической фирмы «Иванов, Макаров и партнеры» Владислав Угрюмов, в качестве одной из мер, чтобы повысить эффективность защиты интеллектуальных прав, нужно было бы перенести споры в специализированный суд. «Такие суды в РФ сейчас существуют, но дела попадают в них не в рамках первой инстанции. Напротив, если бы такая практика существовала бы, мы могли бы быстрее сформировать необходимую судебную практику и сделать процесс оспаривания прав на тот или иной препарат более прозрачным», – говорит он.
В то же время, говорит старший партнер VERBA LEGAL Александр Панов, в сфере принудительного лицензирования практика только формируется и суд по интеллектуальным правам должен играть важную роль в ее формировании. «Сейчас СИП рассматривает такие дела в качестве кассационной инстанции, не устанавливая фактические обстоятельства. На этом этапе СИП и Верховный Суд РФ вправе формировать подходы и корректировать применение норм права. Передача таких дел в СИП в качестве суда первой инстанции может внести противоречие между практикой арбитражных судов и специализированного суда, что не будет способствовать правовой определенности. Что еще важнее, что передача в СИП автоматически лишает судебный процесс дополнительной, апелляционной инстанции. Ее в СИП просто нет. Именно апелляция вправе переходить к рассмотрению дел по правилам первой инстанции, оценивать фактические обстоятельства, назначать повторные экспертизы. Поэтому внимательное отношение к текущим делам и дополнительное практическое разъяснение применимых норм – это более реалистичный путь развития правоприменения», – отмечает он.
Еще одна ситуация, в рамках которой в перспективе могут быть нарушены права фармацевтических компаний – это создание препаратов в производственных аптеках. Они активно работали в СССР, но в России за последние 20 лет их численность постоянно сокращалась. Ранее Минздрав решил поддержать этот вид производства, поспособствовав принятию федерального закона (ФЗ) №502 о производственных аптеках и мелкосерийном лекарственном производстве. Согласно закону о возрождении аптечного изготовления, сегодня аптечным организациям разрешено производить не зарегистрированные в России препараты. Как пояснял тогда один из его авторов, депутат Госдумы Айрат Фаррахов, сейчас бюджет РФ тратит огромные средства на приобретение зарубежных лекарств для орфанных пациентов, например, через фонд «Круг добра» – и «хотя бы часть из них могла бы быть воспроизведена российскими производственными аптеками, раз уж патентообладатели не хотят регистрировать их в РФ». Отметим, что пока о таких планах сообщила компания «КФР» – резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус».
«Везде в мире производственные аптеки опять-таки прежде всего руководствуются правилом дефектуры – что возвращает нас к вопросу о четком определении этого понятия», – говорит Михаил Степанов. Но, помимо этого, по его словам, нет гарантий, что качество таких препаратов будет высоким – ведь никаких GMP стандартов, аналогичных тем, по которым функционирует фармацевтическое производство, у аптек нет. «Эти действия приведут к массовому исходу иностранных компаний с нашего рынка, а это на сегодня уже будет совсем невосполнимая потеря. Никто строить предприятия полного цикла в России по международным стандартам не будет – производственную аптеку сделать дешевле и проще, только вот в случае пандемии есть ли уверенность, что эта аптека справится с массовым выпуском?», – задается вопросом он.
«Нужно понимать, что защита интеллектуальной собственности — это один из ключевых факторов, определяющих приход инноваций в страну. Если нарушается патентное право, компании воспринимают это как прямую угрозу своим инвестициям. Это подрывает доверие к юрисдикции, создает неблагоприятный имидж для инвестиционного климата и тормозит появление новых лекарств на российском рынке. Поэтому сегодня крайне важно найти баланс между интересами пациентов и сохранением цивилизованных правил в фармацевтической отрасли», – заключает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.


