Отступление немоты
Игорь Гулин о «Кажется Эстер» Кати Петровской
В «Издательстве Ивана Лимбаха» вышел русский перевод «Кажется Эстер» Кати Петровской — написанного по-немецки документального романа об истории собственной семьи автора на фоне катастроф ХХ века.
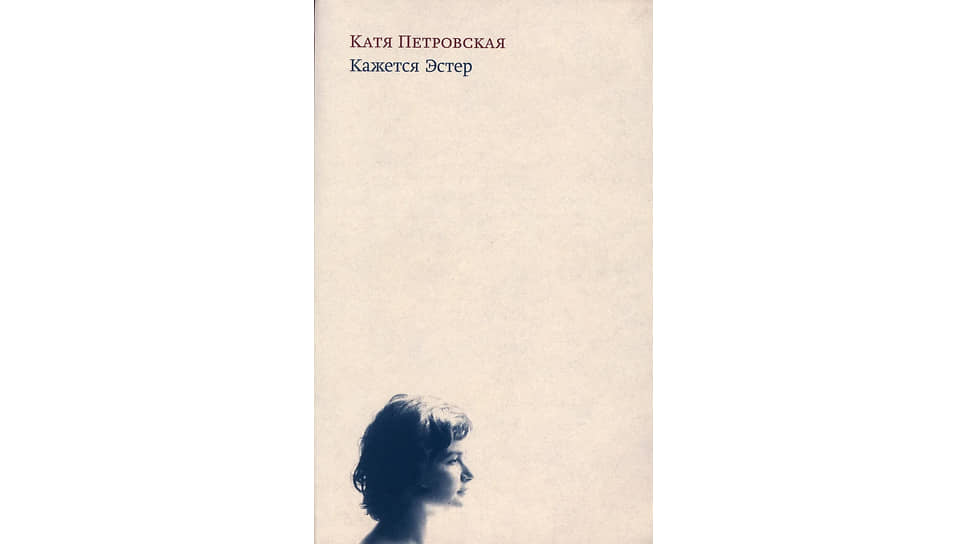
Фото: Издательство Ивана Лимбаха
Фото: Издательство Ивана Лимбаха
Катя Петровская родилась в Киеве, училась в Тарту у Лотмана, эмигрировала в Германию в конце 1990-х, занялась журналистикой, работала на «Свободе», «Немецкой волне» и в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, а в 2014 году выпустила свою первую книгу. Документальный роман «Кажется Эстер» стал бестселлером, получил пять литературных премий, был переведен на 20 языков и теперь, наконец, вышел в России в переводе Михаила Рудницкого.
Почему эта книга написана по-немецки? Тут есть две причины. Первая — концептуальная: чужой язык для Петровской — способ остранения собственного опыта. «Кажется Эстер» — роман о том, как выговорить невыговариваемое, вспомнить то, что вымарано из памяти. Но чтобы вспомнить, надо в полной мере ощутить забвение, физическую затрудненность речи. В семье Петровской была профессия, передаваемая из поколения в поколение начиная с середины XIX века,— учитель для глухонемых сирот. Эта родовая миссия становится одной из базовых метафор текста. Связь между словами «немой» и «немец» проговаривается снова и снова: немецкий язык — это немота, из которой происходит новое обретение речи.
Вторая причина — более прагматическая. В Германии больше, чем в любой другой стране, развита культурная индустрия памяти. Немецкий — язык, на котором известно, как говорить о травме исторических катастроф, том чувстве, что испытывает частный человек, приближаясь вплотную к ужасам Холокоста, террора, войны. Высокие образцы тут дали главные классики немецкоязычной литературы конца прошлого века — Гюнтер Грасс, Герта Мюллер, В.Г. Зебальд.
Влияние последнего в книге Петровской открыто манифестируется. Она использует зебальдовскую модель романа-травелога, в котором путь по европейским городам, вокзалам, улицам, полям, архивам, кладбищам (география: Берлин, Варшава, Киев, Вена, Москва, городок Калиш, бывший лагерь Маутхаузен) становится путешествием во времени — поиском следов исчезнувших людей. Эти люди — родные автора, погибшие в лагерях, расстрелянные на Лубянке, просто сгинувшие неизвестно где в кошмаре прошлого века. О некоторых из них остались семейные предания, о ком-то было принято молчать, кого-то — тех, кто умудрился выжить,— Петровская помнит в старости, от кого-то даже имени не осталось.
Эстер из названия романа — прабабушка Петровской, которую отец называл просто бабушка, и как ее зовут, никто не помнит,— кажется, Эстер. 29 сентября 1941 года — в день катастрофы в Бабьем Яре — она, бессильная старуха, прочтя объявление о том, что всем евреям необходимо собраться на площади, вышла из дома, но, не дойдя до пункта назначения, была застрелена кем-то на улице. Дворник-сосед видел эту смерть, и память о ней осталась. История не сохраняет всего, но при страстном упорстве из нее можно вытащить очень многое и так преодолеть стирающую силу времени, по крупицам отвоевать у безличного большого нарратива свой собственный — написать семейный эпос, в котором смерть будет не побеждена, но достойно встречена силой родственной любви и заботы о памяти. Примерно этим занимается Петровская.
Петровская верно следует Зебальду в конструкции романа-отчета, включающего фотографии-свидетельства, но ее стиль сильно отличается от зебальдовской сухости. Это язык, полный завитков и каламбуров, постоянно запинающийся, спрашивающий о собственных правах. Образцом здесь кажется проза Герты Мюллер, также превращавшей немецкую речь в носителя травмы, заставлявшей ее претерпевать давление государства сопротивляться ему — создававшей язык поломанный и потому адекватный катастрофе.
Можно было бы заметить, что в книге Петровской радикальные находки этих авторов становятся основанием для более легко усваиваемого письма — письма почти терапевтического, успокаивающего,— несмотря на весь ужас, о котором идет речь в ее книге. Но важнее другое. И Зебальд, и Мюллер — авторы эпохи постмодерна. Принципиальной вещью для них обоих — хотя и очень по-разному — было недоверие языку. Документ ненадежен, свидетель, возможно, врет, реконструкция — всегда указание в слепое пятно прошлого. Только эта слепота, эти ложь, незнание, провал и запинка говорят правду, и именно их стоит слушать.
«Кажется Эстер» — произведение другой, уже постпостмодернистской эпохи, в которой приемы, что еще недавно были средствами критики, используются для утверждения ценностей. Проект Петровской удивляет тем, что он абсолютно успешен. Немота преодолена, история написана, мертвые не забыты, связь времен восстановлена — автор принадлежит своему роду и своему народу. Во многом «Кажется Эстер» — текст о преодолении кризиса идентичности, переизобретении себя как еврея.
Петровская предлагает модель «бытия евреем», основанную не на религии, не на политике (поддержке государства Израиль) и даже не на культурных традициях, а на семейной солидарности живых и мертвых — на верности отцу, матери, дядям и тетям, бабушкам и дедушкам. Для русскоязычной еврейской интеллигенции, конструирующей себя во многом именно через локальные семейные истории — истории верности своему кругу и противостояния враждебному миру, эта модель — вещь самоочевидная и даже выглядящая консервативной. При переносе в европейский контекст она оказывается новацией. Так этот частный документ обретает социальное значение.
За звуком звук, за словом слово день за днем учились они молиться. Я выросла в семье братских народов Советского Союза, где все были равны и все были обязаны учить мой родной язык, правда, не молитвы, но к моему «мы» принадлежали все. Не без гордости жила я в убеждении, что мои предки обучали сынов всех народов. И непростительно долго не могла сообразить, какой, чей язык они преподавали детям. Из своего космополитического настоящего я полагала, будто они обучали глухонемых говорить на всех языках мира, словно глухонемота, как и сиротство, некий чистый лист, то есть свобода освоить любой язык и любую историю. Наше еврейство оставалось для меня глухонемым, а глухонемота — еврейством. Это была моя история и мое происхождение, но это была не я.
Катя Петровская. Кажется Эстер. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021. Перевод: Михаил Рудницкий

