Наука любви к искусству
Анна Толстова о переиздании Макса Фридлендера
Ничего сенсационного: "Об искусстве и знаточестве" уже издавалось на русском — тем же издателем, десять с лишним лет назад, сейчас вышло переиздание с некоторыми исправлениями в переводе. Сенсация — разве то, что первое издание раскуплено. Ведь сегодня Макса Фридлендера (1867-1958) нельзя назвать модным и актуальным автором. Впрочем, Фридлендера нельзя было назвать актуальным и модным и в 1946-м, когда в Цюрихе в издательстве Эмиля Опрехта, ведшего свою личную книжную войну с нацизмом, вышло это его итоговое, в сущности, сочинение. В 1946-м он, немецкий еврей, в 1933-м лишившийся всех своих музейных постов (он совмещал две важнейшие должности в Берлине — директора Картинной галереи и директора Гравюрного кабинета), в 1939-м бежавший в Голландию и спасшийся в годы нацистской оккупации лишь потому, что был не одним из лучших, чего уж там, а просто лучшим специалистом по старым нидерландским мастерам, и Геринг, так их любивший, это прекрасно понимал и отдавал ему должное,— в 1946-м Фридлендер ни слова не говорит о политике, о крахе гуманистического проекта, о судьбах Европы и мира. Он не Ханна Арендт, отнюдь. Он даже не Эрвин Панофски: школа иконологии, благодаря единомышленникам партайгеноссе Геринга эмигрировавшая из Германии и Австрии в США и Великобританию, перешедшая с немецкого на английский и чуть ли не на полстолетия сделавшаяся самым влиятельным направлением в искусствознании (что, между прочим, означало превращение оного из немецкоязычной в англоязычную науку), Фридлендеру чужда. Он был ученый старой школы, школы знатоков. Школы, цветистым интерпретациям предпочитавшей выверенный catalogue raisonne, красотам литературного стиля — инженерную четкость аргументации. Школы музейных кротов, "вещеведов", как их презрительно называют. И вот этот пережиток прошлого написал в 1946-м лучшую книгу о том, что такое не наука — Фридлендер смеется над "учеными", пытающимися опереть искусствоведение на костыль филологии или истории,— но знание об искусстве. Или, если хотите, лучшую книгу о том, что значит любить и понимать искусство. И правда, слово "знаток", когда Фридлендер употребляет его в положительном смысле, можно перевести как "любящий искусство и пользующийся взаимностью".
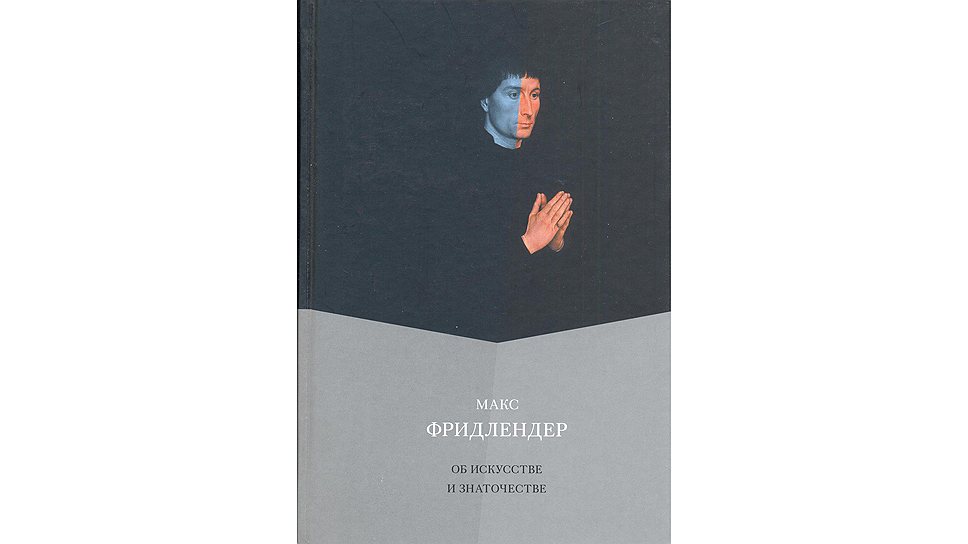
На первых страницах он, практик, признается, что почти не читал сочинений по теории искусства. И с иронией, но не горькой — в этой книге нет ни капли горечи, ни одного злого или яростного слова, она действует умиротворяюще, как созерцание старинного нидерландского пейзажа, когда взгляд убегает вслед за бесконечно петляющей рекой, и вот вы уже внутри и в глубине картины, где-то среди зелено-синих холмов,— описывает удел искусствоведов-знатоков. Все их верные атрибуции со временем становятся общим достоянием, и авторов открытий никто не помнит, зато запоминаются ошибки и научные споры, вызванные их заблуждениями. И все же по Фридлендеру выходит, что знаточество — счастливое занятие: именно оно, а не критика с ее писательскими муками творчества и не теория с ее философскими потугами ближе всего подходит к акту художественного творения. Ведь знаток, изучающий картины, и художник, изучающий видимый мир, пользуются одним и тем же инструментом — глазом: "Творить искусство и созерцать искусство — действия, у которых гораздо больше общего, чем это обыкновенно принято считать. Творческая фантазия соотносится с воспринимающей фантазией так, как соотносятся друг с другом шестеренка и привод". Видимый мир — один на всех, но созерцающий его глаз всякий раз особенный, и ремесло знатока — поиск этих особенностей художнического зрения, мастерство сколь аналитическое, столь же и интуитивное, на ощупь, на страх и риск, как у взломщика сейфов. Талант знатока — талант припоминания, но не в платоновском, а скорее в прустовском духе: "У него хорошая память на визуальные впечатления, но вовсе не потому, что он жадно все заучивает наизусть, а потому, что он душою отдается наслаждению созерцания, пребывая в возбуждении, которое как воск размягчает грифельную доску памяти. Он хранит на протяжении десятилетий воспоминания о форме и цвете, хотя это и не означает, что он мог бы их воспроизвести, повторить или даже описать,— это означает, что то или иное явление, вновь явленное ему, он узнает и приветствует как знакомое".
Чистота, правда и сила зрения становится тем универсальным критерием, каким Фридлендер, натурфилософ вслед за Гете и энтузиаст видимого мира вслед за импрессионистами, меряет и старое, и современное искусство. И ему, всегда готовому поставить Сезанна, великого аналитика природных феноменов, на одну доску со своими дорогими нидерландцами, сложно полюбить абстракцию: он считает ее, отвернувшуюся от природы, бесчувственным орнаментом. Нам сегодняшним непросто с этим смириться, хотя нетрудно заметить, что, упрекая абстрактное искусство в декоративности с позитивистских позиций XIX века, Фридлендер невольно шлет привет критикам абстракционистов из стана левых интеллектуалов века XX.
Рассуждения Фридлендера по большей части опираются на примеры из северных школ XV-XVII веков, которыми автор жонглирует с завораживающей легкостью. В первой их части он пытается построить теорию живописи из практики профессионального созерцателя-гедониста, систематизируя эстетические и формальные понятия, чтобы затем торжественно объявить, что никаких систем, схем, законов, даже специальной терминологии в знании об искусстве нет и быть не может, нет ничего раз и навсегда определенного. Определенность заканчивается на справочниках по маркам фарфора и монограммам граверов. Терминология этой веселой лженауки состоит из неверифицируемых понятий, будь то "живописность", "манера" или "гений". Более того, само писательство об искусстве, постигаемом интуитивно и чувственно,— дело практически абсурдное: "Чувства подобны бабочкам, достаточно насадить их на острие слова, чтобы жизнь тут же улетучилась из них. Все сказанное об искусстве звучит как дурной перевод". И все же Фридлендер не отбрасывает пера и во второй части книги подробно рассказывает о знаточеском ремесле, об оригиналах и копиях, о подписях и анонимах, об атрибуциях, фальсификациях и реставрациях. И его рассказ заставляет нас поверить, что ремесло это базируется на строгих принципах, какие тем не менее невозможно сформулировать: "В этой сфере преобладает уверенность, основывающаяся на чувстве, именно она и занимает место убедительного умозаключения". В чем же секрет его мастерства, где та волшебная палочка, одним взмахом которой он строит свой стройный и прочно стоящий на рационалистической почве замок? Ответ обескураживает: "Нужно суметь чистой душою и всеми обнаженным чувствами уловить впечатление, с тем чтобы затем, оставив все предубеждения, без лишних размышлений, втиснуть его в языковую форму". Наверное, гимн интуиции и целостности впечатления, отдающий импрессионизмом и бергсонианством, в 1946-м на сугубо искусствоведческий слух звучал весьма старомодно. Однако издатель Эмиль Опрехт, опора диссидентов и эмигрантов, специализировавшийся на литературе художественной и политической, зачем-то взялся за этот непрофильный для своего предприятия труд. Может быть, потому, что слова о чистоте души и глаза, не засоренного никакими идеологиями, о чувственно-интеллектуальном удовольствии от созерцания, о человеческом, которого не бывает слишком, звучали не эпитафией, но гимном гуманистическим ценностям, воскресающим из пепла, даже если это пепел Освенцима. Гимном без всякого пафоса, столь желанным и в 1946-м, и в любом другом году.
Макс Фридлендер. Об искусстве и знаточестве. — СПб.: Андрей Наследников, 2013

